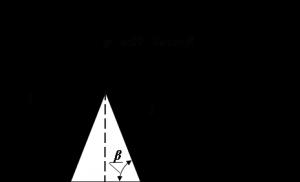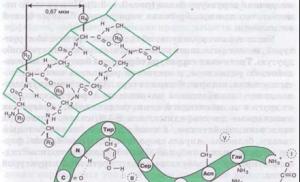Удивительный мир гончарова. Своеобразие реализма Гончарова
15.09.1891 (28.09). - Умер писатель Иван Александрович Гончаров
"Обломовщина" – это не столь простая картина русской жизни ХIХ века...
(6.06.1812–15.09.1891), русский писатель. Родился в Симбирске в состоятельной купеческой семье. Первоначальное образование получил дома под руководством отставного моряка, помещика Н. Трегубова, человека просвещенного. Уже в детстве Гончаров прочитал произведения , сочинения Расина, Вольтера и Руссо, описания различных путешествий, исторические сочинения. По окончании Коммерческого училища (1822–1830) и (словесное отделение, 1831–1834) служил чиновником в Симбирске в канцелярии губернатора, затем десять лет в Петербурге мелким чиновником Министерства финансов. Эти годы принесли ему как писателю полезный опыт наблюдений над бюрократическим и коммерческим міром Петербурга, что потом отразилось в его романах. Но чиновничьей службой он тяготился и все свободное время посвящал литературе.
В 1838 и 1839 гг. в рукописных альманахах литературно-художественного кружка живописца Н. Майкова появились романтические стихи Гончарова и первые повести "Лихая болесть" и "Счастливая ошибка". Весной 1846 г. он знакомится с носителем революционных идей Белинским, оказавшим большое и вредное влияние на духовное развитие писателя. В его общественных симпатиях в 1840–1850-е гг. видны социал-демократические тенденции, нашедшие свое отражение в первом романе Гончарова "Обыкновенная история" (1847).
Осенью 1852 г. Гончаров отправился в кругосветное путешествие к берегам Японии на русском военном корабле "Паллада" в качестве секретаря начальника экспедиции. За два с половиной года побывал в Англии, Южной Африке, Малайе, Китае, Японии. Лицезрение заморской экзотики было полезно для сравнения чужой жизни со своей родной. В феврале 1855 г. вернулся в Петербург сухопутным путем, через Сибирь и Заволжье. Впечатления от путешествия составили два тома очерков, изданных под названием "Фрегат Паллада" (1858).
По возвращении в столицу, вынужденный продолжать службу, становится в 1856 г. цензором, проявляя на этом поприще сочувственное отношение к "прогрессивным" явлениям литературы: способствовал новому изданию запрещенных в течение нескольких лет "Записок охотника" , сборника стихотворений , разрешил к печати роман Писемского "Тысяча душ". В 1862–1863 гг. – главный редактор правительственной газеты "Северная почта".
В 1859 г. появился второй роман Гончарова – "Обломов", сделавший писателя известным и ставший предметом внимания критики. Почти карикатурное описание русской помещичьей жизни и крепостного патриархального быта имело бурный успех у левой интеллигенции, а имя Обломова стало нарицательным: синонимом "русской лени". Ей в романе противопоставлен успешный деловой человек-реалист Штольц из обрусевшей немецкой семьи. Однако в романе очевидна не только язвительная критика безвольной "обломовщины", но и отсутствие у реалиста Штольца ответа на резонный вопрос Обломова: «Так когда же жить?» – стоит ли так суетиться только ради земных благ?.. То есть, лень Обломова была не так проста и примитивна. Похоже, его беда была в утрате верного духовного смысла жизни при неприятии мірской суеты. Жаль, что эта тема представлена в романе лишь между строк – она могла бы "вытянуть" произведение в разряд подлинных шедевров русской классики XIX в.
В дальнейшем к демократическому движению, к идеям социализма Гончаров охладел и представлял себе развитие России не в революционном, а в реформистском духе. Вновь был приглашен на высокую должность в цензурный комитет: член Совета по делам книгопечатания, Член Главного управления по делам печати. Лишь в 1867 г. окончательно покидает цензурный департамент.
Третий роман Гончарова "Обрыв" (1869) с обличением нигилизма явился плодом двадцатилетней работы писателя, в том числе над своим духовным созреванием. За эти годы Гончаров как мастер реалистической прозы прошел путь от резко критического обличения действительности до понимания удерживающей роли русского консерватизма и опасности нигилистических тенденций. В предисловии к "Обрыву" Иван Александрович пишет:
«Мыслители говорят, что ни заповеди, ни Евангелие ничего нового не сказали и не говорят, тогда как наука прибавляет ежечасно новые истины. Но в нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует Евангелие, а это едва ли не труднее достижения знания» .
И еще находим в "Обрыве" такие строки в описании міровоззрения героя-нигилиста с еврейским именем Марк Волохов: «...он требовал... веры в свое учение, как ее требует другое учение, которое за нее обещает – безсмертие в будущем и, в залог этого обещания, дает и в настоящем просимое всякому, кто просит, кто стучится, кто ищет. Новое учение не давало ничего, кроме того, что было до него: ту же жизнь, только с уничтожениями, разочарованиями, а впереди обещало – смерть и тлен».
Все три своих романа Гончаров рассматривал как единое полотно. Оно реалистично живописует русскую жизнь ХIХ века и помогает лучше понять ее, даже если сам автор был всего лишь талантливым живописцем, а не мыслителем, и не касался глубоких тайн бытия.
В 1870-е с успехом выступал как критик: статья "Мильон терзаний", "Заметки о личности Белинского" и др. Последние годы жизни провел почти в полном уединении, больной, одинокий. Умер, по-православному относясь к смерти, и похоронен в Петербурге.
Глава восьмая
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД
Предшествовавшие главы этой книги посвящены были изучению творческого пути Гончарова. Осуществив исследование этой важнейшей проблемы, мы вправе теперь перейти к общей характеристике художественного метода романиста. Каковы отличительные особенности реализма Гончарова и его стиля? Каково отношение Гончарова к корифеям русского реализма предшествовавшей и современной ему поры? Какова судьба гончаровского литературного наследия за рубежом нашей страны и мировое значение его творчества? И, наконец, какова роль, которую творчество Гончарова играет сегодня; что в нем ценного для читателя советской страны, для писателей, творящих на основе метода социалистического реализма?
Таковы проблемы, которые нуждаются в разрешении. Обратимся к первой из них, то-есть к характеристике творческого метода Гончарова.
Мы знаем, что это был реалистический метод. «Реализм, - говорил Гончаров, - есть одна из капитальных основ искусства» (СП, 187). Он состоит в том, что произведения литературы вбирают в себя всю правду природы и жизни. Именно так, по твердому убеждению Гончарова, и творили величайшие корифеи мировой литературы: «Гомер, Сервантес, Шекспир, Гете и другие, а у нас, прибавим от себя, Фонвизин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь стремились к правде, находили ее в природе, в жизни, и вносили в свои произведения» (СП, 187). Именно эта реалистическая направленность литературы «делает ее орудием «просвещения», то-есть «письменным или печатным выражением духа, ума, фантазии, знаний - целой страны» (СП, 262).
Каково, однако, своеобразие реализма Гончарова; чем его реализм отличается от реализма Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Писемского, Герцена, Л. Толстого, Достоевского, Островского? Какие проблемы жизни Гончаров осветил, какой системы эстетических взглядов придерживался, какие формы художественного письма выработал?
Реализм Гончарова, как и всякий другой реализм, представляет собою определенную форму познания действительности в ее характерных, типических проявлениях. Ленин указывал, что «...если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях» . Говорить о русской революции значит, прежде всего, говорить об историческом процессе в России XIX в. Гончаров принадлежит к числу тех великих русских писателей, которые отразили громадные сдвиги в русской жизни.
В отличие от Некрасова, Щедрина, Успенского Гончаров слабо знал пореформенную русскую жизнь и к тому же мало ею интересовался. Всем своим творческим сознанием Гончаров оставался в дореформенной русской жизни. Ее сложную и противоречивую эволюцию Гончаров отображал во всех своих произведениях. В центре его творческого внимания постоянно находилась борьба между феодально-крепостническим укладом и враждебными ему ростками новой жизни . Эта борьба отличалась остротой: «старое» отстаивало себя в борьбе с «новым», и конфликт между этими двумя началами был закономерным и неизбежным. В произведениях Гончарова этот конфликт отражен во всей полноте его противоречий. Под знаком ожесточенной борьбы развертываются столкновения между Александром и Петром Адуевыми, Обломовым и Штольцем, бабушкой и Райским. Один из замечательных периодов русской жизни - тридцатые, сороковые и пятидесятые годы XIX в. - предстают перед нами здесь в состоянии глубоких внутренних разломов. Автор «Обломова» и «Обрыва» показывает нам, как «старая правда» перестает удовлетворять людей, чутких к требованиям времени, как настойчиво они ищут «новой правды». Гончаров вне всякого сомнения понимает историческую обреченность старого крепостнического уклада и приветствует ростки новой жизни.
Ленин писал о Льве Толстом, что он «знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы» . К Гончарову этих слов применить нельзя: этот писатель знал превосходно быт только одного и конечно далеко не главного слоя русского крестьянства- В отличие
от Тургенева, который посвятил крестьянству целый цикл своих ранних очерков, от Григоровича и Даля, не говоря уже о молодом Некрасове, Гончаров почти не изображал крепостных крестьян в собственном смысле этого слова, то-есть тягловых мужиков. «Мне, - писал Гончаров в предисловии к нравоописательным очеркам “Слуги”, - нередко делали и доселе делают нечто в роде упрека или вопроса, зачем я, выводя в своих сочинениях лиц из всех сословий, никогда не касаюсь крестьян, не стараюсь изображать их в художественных типах или не вникаю в их быт, экономические условия и т. п. ... у меня есть один ответ, который устраняет необходимость всех других, а именно: я не знаю быта, нравов крестьян, не знаю сельской жизни, сельского хозяйства, подробностей и условий крестьянского существования, или если знаю что-нибудь, то это из художественных и других очерков и описаний наших писателей. Я не владел крестьянами, не было у меня никакой деревни, земли; я не сеял, не собирал, даже не жил никогда по деревням... Откуда же мне было знать, так сказать, лично крестьян: их жизнь, быт, нравы, горести, заботы... описывать, при том еще изображать художественно типы и нравы крестьян могут те, кто жил среди них, непосредственно наблюдал их вблизи, рисовал их с натуры: тем и книги в руки... описывать или изображать крестьян было бы с моей стороны претензией, которая сразу обнаружила бы мою несостоятельность» (IX, 259-261).
Такое откровенное признание делает честь добросовестности Гончарова. Нельзя сказать, впрочем, чтобы крестьяне вовсе не фигурировали в его романах. Мы узнаем из письма старосты Обломова о тех его крепостных, которые находятся в бегах: «А под Иванов день еще три мужика ушли: Лаптев, Балочов да особо ушел Васька, кузнецов сын. Я баб погнал по мужей: бабы те не воротились, а проживают, слышно, в Челках... А нанять здесь некого: все на Волгу, на работу на барки ушли - такой нынче глупый народ стал здесь, кормилец наш, батюшка, Илья Ильич!» (II, 42). Райский замечает во время своего путешествия по городу мужиков, которые едят свою скудную пищу, мучимые голодом. «Мужики сидели смирно и молча, по очереди, опускали ложки в чашку и опять клали их, жевали, не торопясь, не смеялись и не болтали за обедом, а прилежно и будто набожно, исполняли трудную работу. Райскому хотелось нарисовать... этот поглощающий хлеб и кашу голод. Да, голод, а не аппетит: у мужиков не бывает аппетита. Аппетит вырабатывается праздностью, моционом и негой, голод - временем и тяжкой работой» (IV, 235). Таких беглых упоминаний о крестьянах у Гончарова можно было бы привести еще несколько. Однако, в отличие от Тургенева, Писемского и особенно от Л. Толстого, наш романист нигде не
обращался к прямому реалистическому изображению этого класса. В частности, он ни разу не изобразил в своих произведениях той борьбы крестьян со своими угнетателями, которая была характерна для эпохи крепостничества и которая нашла себе смягченное изображение в рассказах Тургенева и Григоровича, и особенно полно и сочувственно была нарисована в поэмах Некрасова и семейных хрониках Щедрина.
Не зная крестьянина в прямом смысле этого слова, Гончаров в то же время превосходно знал и любил изображать крепостных слуг. В дореформенной России слой дворовых крестьян был, как известно, довольно многочисленным. Образы дворни в его творчестве чрезвычайно разнообразны. В «Обыкновенной истории» это Евсей, Аграфена, Прошка, Маша, взятая в усадьбу «ходить за барином», в «Обломове» - Анисья, Захар и все многочисленные собеседники последнего по двору на Гороховой улице, услужающая Ольге крепостная горничная Катя и проч. Особенно многочисленны образы крепостной дворни в «Обрыве»: припомним здесь Василису и Якова, Савелия и Марину, садовника Егорку, Улиту, Семена, дворовых девушек, девочку Пашутку и т. д. «Я, - признавался Гончаров позднее, - не мало потратил красок на изображение дворовых людей, слуг... Слуги остаются и, повидимому, останутся навсегда или надолго, от них не отделаться современному обществу... у нас слуги пока еще, как волны, ходят около нас...» (IX, 262).
Разумеется, «дворня» не могла заменить собою крестьянства, которое в своем основном массиве осталось за пределами внимания Гончарова. Однако и здесь романист сумел поставить важную проблему - развращающего воздействия крепостнического уклада на известную часть русского крестьянства, искусственно оторванную от производительного труда. Именно эта проблема раскрыта в образах Евсея, Егорки и особенно Захара, без которого мы не поймем до конца Обломова.
Как ни широко изображены, однако, в произведениях Гончарова психология и быт крепостной дворни, эта тема никогда не занимала здесь первенствующего места. Оно принадлежало дворянству, этому «первому» сословию феодально-крепостнической России. Гончаров превосходно знал жизнь самых различных слоев русского дворянства. Он не питал симпатий к дворянской аристократии, так называемому «высшему свету». Для художественного метода Гончарова было примечательно, что он считал этот высший круг неопределенным: он «очень обширен, многоэтажен и распадается сам на многие круги, часто имеющие мало общего между собою. Аристократ по рождению - часто далеко не аристократ по положению или по воспитанию» (СП, 91). Гончаров не любил этого «верхнего слоя»
русского дворянства, который он справедливо считал уже вполне сыгравшим свою историческую роль. Он не раз говорил о том, что так называемый «beau monde» дворянства «в понимании русского искусства... сходит уже на второй план, уступая первенство тем из русских людей, которые воспитались и прочно образовались не только в духе русских политических, общественных и других интересов, которых обязан держаться “beau monde”, но и в русских нравах, среди русского быта, преимущественно и больше всего владеют и русским складом ума, и коренным русским языком. В этом во всем и заключается истинная и великая разница между “beau monde” и средним русским классом, т. е. в цельности, чистоте и прочности русского образования и воспитания» (СП, 93). Гончаров выражается достаточно учтиво, но мысль его определенна и ясна: высший «круг» потерял право называться русским. Образами Беловодовой и особенно Пахотина романист стремится подтвердить эту свою мысль.
Сравнительно бегло изображая светский круг, романист с гораздо большим вниманием обращается к среднему русскому дворянству, сидящему на земле и с большей или меньшей мерой успеха хозяйствующему в своих имениях. К этой группе дворянства принадлежат Адуев, родители Обломова, Бережкова и другие. Гончаров всесторонне изображает жизнь этой помещичьей среды - ее хозяйственные методы, более или менее ограниченный (даже в «Обрыве») уровень ее культурных интересов, - и вместе с тем ее патриархальный и замкнутый внутри себя быт.
Среда эта изображена им в движении, эволюционирующей и разлагающейся. Адуева-мать, старики Обломовы, Бережковы хотели бы видеть молодежь около себя, закрепить ее в гнезде, чтобы она продолжала дело своих дедов и отцов. Но все их старания безуспешны. Александр Адуев покидает материнский уют и ради «карьеры и фортуны» навсегда порывает с Грачами, Илья Ильич - с Обломовкой, Райский - с Малиновкой. Жизненные пути этих выходцев из усадьбы различны. Одни, как Александр Адуев, становятся в конце концов удачливыми карьеристами; другие претерпевают процесс классового вырождения (Обломов); третьи, особенно настойчиво ищущие творчества, но не подготовленные к нему, делаются «неудачниками» (Райский). Гончаров прекрасно изучил психику и быт русского дворянства, которое он имел случай наблюдать еще с ранних лет своей жизни. Его внимание привлекало к себе и служилое дворянство (Александр Адуев или Викентьев в «Обрыве»), и дворянская интеллигенция, которую «наследье богатых отцов» освободило «от малых трудов», и всего более - поместное дворянство, связанное с землей.
Гончаров изображает дворянство продуктом крепостнического уклада. Среди русских писателей ни один не посвятил этому укладу столько сил и самого пристального внимания. Неторопливым пером своим романист воссоздает перед нами экономику крепостничества, его социологию, культуру и проч. С исключительной глубиной исследует Гончаров психику, которая формируется в этой патриархальной и отсталой среде и прежде всего тот «романтизм», который отражает неспособность русского дворянства к практической деятельности, его витание в области «прекраснодушия», его пустопорожнюю мечтательность.
Трилогия Гончарова представляет собою монументальнейшее изображение крепостнической апатии и спячки. Уже Пушкин в «Евгении Онегине» и Гоголь в «Мертвых душах» создали общее реалистическое изображение этой сферы действительности. Но только Гончаров развернул ее во всей широт, создав синтетическую картину старой русской жизни.
Русскому дворянству Гончаров постоянно противопоставлял русскую буржуазию. Это не та торговая буржуазия, которую так любил изображать молодой Островский, а буржуазия, связанная с производством: владелец фарфорового завода Петр Адуев, участник промышленной компании Штольц, лесопромышленник Тушин. Ни один современный ему прозаик не изобразил жизнь этого класса с такой полнотой, как Гончаров. Щедрин имел дело с пореформенной буржуазией, Гончаров изображал ее бытие до 1861 г. Образы Адуева-старшего, Штольца и Тушина характеризуют экономическую подоснову жизни русской нарождающейся буржуазии, ее социальное положение в русском обществе, ее культурный уровень, быт и т. д. Гончаров справедливо оттеняет наличие у этой буржуазии совершенно новых, по сравнению с дворянством, черт и, прежде всего, энергии и предприимчивости. Он остается верен действительности, подчеркивая, что русская буржуазия вырастает из крепостнического уклада . Особенно резко это продемонстрировано на образах «Обыкновенной истории». Гончаров с полным основанием подчеркивает относительную прогрессивность буржуазно-капиталистического строя по сравнению с феодально-крепостническим . Она сказывается не в том, что Штольц лично добрее или интеллигентнее Обломова, но в том, что русский капитализм наносит сильнейший удар патриархальной экономике, уничтожает изоляцию, создавая единое хозяйство страны, единый рынок . На смену крепостничеству пришел новый, более прогрессивный строй . Он был прогрессивен не только потому, что крестьяне Обломова становились юридически свободными и могли энергичнее бороться за свою свободу, но и потому, что неумолимой силой капиталистического
процесса они превращались в рабочих, умножая таким образом ряды будущих могильщиков русского капитализма.
Отношение Гончарова к буржуазии полно противоречий, которые ему не удалось до конца разрешить. С одной стороны, романист превозносил деловитость и энергию людей, подобных Штольцу, восторгался их проницательным умом. С другой стороны, сознанием большого художника Гончаров понимал крайнюю ограниченность этого общественного типа, скудость исповедуемых им идеалов личного обогащения и комфорта. Уже в «Обыкновенной истории» он насыщал образы русских буржуа резкой критикой. Нужно, однако, признать, что в 50-60-х годах в Гончарове сильно выросли его иллюзии: в Штольце момент идеализации буржуазного героя, несомненно, сильнее, нежели в Адуеве-старшем, а в Тушине он сильнее, чем в Штольце. Этот рост буржуазных иллюзий был обусловлен политическими взглядами Гончарова и прежде всего его верой в действенность так называемых «великих реформ», открывших дорогу капиталистическому развитию.
Как, однако, ни стремился романист возвести на пьедестал своего буржуазного героя, тот этому не поддавался. Слишком уж отчетливо проступали в этом буржуа его исконные классовые черты и прежде всего - сухое и черствое делячество. То, что Гончаров сумел показать в ряде образов сущность русской буржуазии, сохраняет за ними хотя бы частичную ценность. Как бы то ни было, вклад романиста в освещение этой сферы русской жизни очень высок. Только Островский и Салтыков-Щедрин могут быть поставлены здесь впереди Гончарова в изображении буржуа, этого действительного «хозяина» пореформенной русской жизни.
Гончарова следует признать, далее, внимательным и безусловно критическим отобразителем нравов русской бюрократии. В его произведениях мы находим немало ценного материала для понимания связи этой среды с дворянством в условиях дореформенного русского общества. Припомним зарисовки бюрократической среды в «Обыкновенной истории», «Обрыве», воспоминаниях «На родине» (образы Александра и Петра Адуевых, Аянова и Викентьева, Углицкого и прочих). Об отношении Гончарова к этой среде лучше других говорит образ Ивана Ивановича Аянова. У этого человека не было убеждений, и это помогло Аянову с успехом быть «исполнителем чужих проектов. Он тонко угадывал мысль начальника, разделял его взгляд на дело и ловко излагал на бумаге разные проекты. Менялся начальник, а с ним и взгляд, и проект: Аянов работал также умно и ловко и с новым начальником, над новым проектом - и докладные записки его нравились всем министрам, при которых он служил» (IV, 6).
Этим образом Гончаров показал, как сушит человека лямка бюрократической службы, превращая его постепенно в холодного и бездушного карьериста. «... в душе Ивана Ивановича не было никакого мрака, никаких тайн, ничего загадочного впереди, и сами макбетовские ведьмы затруднились бы обольстить его каким-нибудь более блестящим жребием или отнять у него тот, к которому он шествовал так сознательно и достойно. Повыситься из статских в действительные статские, и под конец, за долговременную и полезную службу и “неусыпные труды” как по службе, так и в картах - в тайные советники и бросить якорь в порте, в какой-нибудь нетленной комиссии или в комитете, с сохранением окладов, - а там, волнуйся себе человеческий океан, меняйся век, лети в пучину судьба народов, царств, - все пролетит мимо его, пока апоплексический или другой удар не остановит течение его жизни» (IV, 7).
Блестящая характеристика, указывающая на то, как хорошо изучил Гончаров сферу русской бюрократии, с которой он был связан в течение тридцати лет своей жизни!
Гончаров превосходно знал и нередко изображал мещанскую среду, с которой часто сталкивались его герои. Припомним образ петербургского мещанина Костякова с его своеобразным протестом против расточительности светского общества, или аналогичную ему фигуру обывателя Ивана Герасимыча, у которого так любил бывать Обломов. Автор «Обломова» знает подлинную цену этой среде. Он недаром показывает мелкого петербургского чиновника Мухоярова беззастенчивым стяжателем на службе и у себя дома (мошенническая проделка с Обломовым, которого он чуть было не обобрал, вкупе с Тарантьевым). В «Обрыве» воинствующим мещанином является Нил Андреич Тычков, когда-то мелкий приказный, а теперь - видный губернский чиновник, держащий в страхе весь город. Его богатство создано путем насилия и воровства. Тычков засадил в сумасшедший дом свою племянницу, воспользовавшись ее имуществом. Подлинной мещанкой является в «Обрыве» и Улинька, беззастенчиво изменяющая своему мужу и в конце концов бросающая его на произвол судьбы. Гончаров не только не идеализирует эту среду, но и подчеркивает ее враждебность подлинной культуре, невежество, глубокую духовную инертность. И делая это, Гончаров прокладывает путь чеховским рассказам о мещанстве, в частности - «Попрыгунье» и «Человеку в футляре».
Критически относясь к дворянству, буржуазии, бюрократии и мещанству, Гончаров, подобно ряду прогрессивных писателей своего времени, делает ставку на интеллигенцию. Романист с симпатией изображает людей умственного труда, педагогов
и деятелей искусства. Среди образов «Обрыва» замечателен Леонтий Козлов, преподаватель греческого и латинского языков в провинциальной гимназии, человек, все мысли которого в античности, которому все современное кажется простым повторением уже пережитого человечеством. «Все то же, все повторения, нового ничего нет, - заметил Леонтий. - Разве там не было волнений, перемен, жажды? Из чего они бьются? Им взять бы с Титом Ливнем, с Тацитом, с Фукидидом, Геродотом, Стробоном - да изучить мелочную закулисную жизнь, тогда не нужно было бы беситься, лить кровь: они увидели бы, что все пережито и преподано нам...» Так говорил Леонтий в рукописи «Обрыва». Этот человек, сознательно ушедший от современной жизни в античность, нарисован Гончаровым сильно и драматично. Леонтий - один из ранних представителей того типа провинциального педагога, который впоследствии так часто изображал Чехов, критиковавший ограниченность этого слоя .
Подстать Леонтию Козлову и художник Кириллов, беззаветно отдавший всего себя искусству. «Вы, - строго говорит он Райскому, - все шутите, а ни жизнью, ни искусством шутить нельзя. То и другое строго: оттого немного на свете и людей, и художников» (IV, 166). Кириллов, «один из последних могикан» старого искусства, недоступного «барам», «истинный, цельный, но ненужный более художник» (IV, 167) выведен в «Обрыве» для того, чтобы ярче оттенить дилетантизм и легкомыслие Райского.
Однако, изображая Леонтия и Кириллова, как отдельных разночинцев дореформенной поры, Гончаров оказался не в состоянии изобразить закономерность последующей победы этого социального слоя. Ленин отмечал, что «падение крепостного права вызвало появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности» . Непонимание закономерности и величайшей прогрессивности этого процесса Гончаров со всей силой проявил в созданном им образе Волохова.
К лучшей части русской интеллигенции принадлежат гончаровские женщины - Лизавета Александровна, Ольга, Вера. В обрисовке женских образов в классической русской литературе Гончарову принадлежит одно из важнейших мест. Он с большой теплотой показал в «Обыкновенной истории» чуткую и тонкую женщину, страдающую в буржуазно-дворянском обществе. В «Обломове» Гончаров показал активно-ищущую и борющуюся женскую натуру, в «Обрыве» - женщину, блуждающую в напрасных поисках верного пути. Вместе с женщинами Тургенева, эти женские образы Гончарова
занимают место между пушкинской Татьяной и героинями революционно-демократической литературы. Именно в этих сильных, глубоких и чистых женских натурах Гончаров видит лучших людей своего времени. Далекий от революционных убеждений, он считает, что именно эти передовые женщины будут воспитательницами нового поколения, которому принадлежит будущее в России.
Белинский и Добролюбов подчеркивали новаторство Гончарова в изображении русской женщины. «К особенностям его таланта, - писал Белинский, - принадлежит необыкновенное мастерство рисовать женские характеры. Он никогда не повторяет себя, ни одна его женщина не напоминает собою другой, и все, как портреты, превосходны… у наших писателей женщина - или приторно сентиментальное существо, или семинарист в юбке, с книжными фразами. Женщины г. Гончарова - живые, верные действительности создания. Это новость в нашей литературе». Добролюбов писал, что разбирать женские типы, созданные Гончаровым, значит «предъявлять претензию быть великим знатоком женского сердца», что «верность и тонкость психологического анализа у Гончарова - изумительна...» .
Автор «Обломова» никогда не поднимался до требования революционной замены одного социального уклада другим. Говоря о развитии русского исторического процесса, Гончаров стремился доказать «постепенный» характер общественной эволюции. В одной из своих статей 70-х годов он писал: «Если справиться с действительностью, не окажется ли, что эта старая жизнь вовсе не отошла, что быт и нравы, описанные в этом и в других, рисующих старую жизнь, романах, до сих пор составляют господствующий фон жизни, что, наконец, в этих самых нравах есть нечто, что, может быть, останется навсегда в основе русской коренной жизни как племенные ее черты, как физиологические особенности, которые будут лежать в жизни и последующих поколений и которых, может быть, не снимет никакая цивилизация и дальнейшее развитие, как с физической природы и климата России не снимет ничто ее естественного клейма» (СП, 121).
Это рассуждение в высокой мере характерно для Гончарова. Его всегда интересовало «состояние брожения, борьба старого с новым» в русском обществе. Гончаров следил «за отражением этой борьбы на знакомом ему уголке, на знакомых лицах» (VIII, 232). При этом романист до конца оставался эволюционистом, убежденным сторонником мирного и постепенного перерождения. «Крупные и крутые повороты, - указывал он, - не
могут совершаться, как перемена платья; они совершаются постепенно, пока все атомы брожения не осилят - сильные - слабых и не сольются в одно. Таковы все переходные эпохи» (VIII, 233).
Гончаров не понимал громадной исторической прогрессивности революционных переходов из одного качества в другое, с отбрасыванием новым обществом всего, что ему враждебно. Своими романами - и в частности «Обрывом» - он стремился показать, что «старая правда никогда не смутится перед новой - она возьмет это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное, боится ступить очередной шаг вперед» (VIII, 154). Знаменательно для Гончарова и это признание существования не одной, а двух правд, «старой» и «новой», и стремление его убедить читателя в том, что эти «правды» никогда не вступят в непримиримый конфликт.
Не случайно примирительны концовки гончаровских романов. В «Обыкновенной истории» племянник и дядя в конце концов сошлись в своих жизненных дорогах. Это, конечно, не «правда» гуманистических идеалов Лизаветы Александровны, но реальная «правда» торжествующего свою победу духовного мещанства. Гончаров этой победе не сочувствует, но он считается с нею, как с фактом действительности. В «Обрыве» примирение нового со старым носит вполне позитивный характер. В сознании Райского и самого романиста бабушка, Вера и Тушин едины, их будущие дороги сольются. И даже в «Обломове», где, казалось бы, так драматически погиб герой, затянутый тиной мещанского существования, намечается возрождение при помощи того же примирения «старого» и «нового». Штольц перевоспитывает сына Обломова и, может быть, сам перевоспитается при этом сближении с новым поколением.
Писатель-реформист никогда не произнес бы знаменитых слов Чернышевского о том, что «историческая деятельность - не тротуар Невского проспекта»: он желал бы ее уподобить именно ровному тротуару. Все в истории - по Гончарову - происходит эволюционно, и только такие медленно протекающие процессы кажутся ему надежными. «Трезвое, во многом рационалистически-критическое мышление, враждебность к отсталости, в чем бы они ни выражались, хотя бы в запоздалой романтике, - все это характерно для Гончарова. Но не менее показательно для него иное: страх перед тем, как бы неизбежные и даже подчас желательные с его точки зрения процессы изменения действительности не протекали слишком быстро, слишком бурно; как бы насильственно не было прекращено то, что, по мнению автора “Обломова”, еще не изжило себя до конца. Отсюда у Гончарова вражда к революционному движению, которое якобы искусственно ускоряет процесс развития,
“забегает вперед”, мешает “дожить” старине положенный срок. Вражда эта переносится и на явления в области литературы, даже на целые жанры (например, на сатиру)» .
Эволюционный позитивизм Гончарова тесно связан с его» «объективностью», зачастую переходящей в объективизм. Как никакой другой русский писатель, Гончаров любит взвешивать все «за» и «против» для того, чтобы в результате этот неторопливого взвешивания определить направление «равнодействующей» исторического процесса. В жизненном явлении он постоянно стремится установить его сильные и слабые стороны. В «Фрегате Паллада» читаем: «... есть тут своя хорошая и дурная сторона, но, кажется, больше хорошей» (VI, 56). Другой сказал бы: «не дурно, а хорошо», тогда как Гончаров предпочитает более осторожную формулу. Или в воспоминаниях «В университете» Гончаров говорит: «Да, пожалуй, манера эта... не республиканская... Но... она имела и некоторую хорошую сторону...» (IX, 118). «Не берусь решать, было ли это лучше или хуже нынешнего. Полагаю, есть своя хорошая и своя дурная сторона медали...» (IX, 134). В этих рассуждениях Гончарова несомненно раскрывается его стремление к политическому компромиссу, осторожность реформиста, не терпящего «крайностей».
Было бы, впрочем, ошибкой видеть в этих рассуждениях одну лишь обывательскую философию «золотой середины», как это делали некоторые критики. Для Гончарова такое рассуждение не было только средством избегнуть опасных крайностей: он считал его надежным методом обнаружения истины. Он призывает не приукрашивать историческое явление и не чернить его, а понять его во всей его многосторонности. Только поняв эту многосторонность явления, исследователь сможет вынести о нем справедливое суждение. Так поступит, например, с Белинским беспристрастный суд критики, который, по словам Гончарова, «отделит его общественно-литературную деятельность от всяких дружеских симпатий, откинет все преувеличения и строго определит и оценит истинное его значение и заслугу перед обществом» (VIII, 185).
По мнению Гончарова, художнику не всегда дается это труднейшее искусство отыскания «равнодействующей», но искать ее он обязан. И Гончаров поступает именно так, как он учит. Рисуя борьбу «отцов» и «детей», он примиряет их, воздавая должное каждому поколению. Осуждая (в общем гораздо решительнее Тургенева) дворянский романтизм, наш писатель в то же самое время оттеняет его положительную черту - наличие идеала. Именно этот идеал возвышает Александра во время его многочисленных неудач при столкновении с действительностью.
Гончаров, несомненно, сочувствует герою там, где он страдает от ударов «низкой» действительности. Затем удары эти перестают действовать на Александра; он примиряется с жизнью, переходит на точку зрения дядюшки. И здесь Гончаров отказывает ему в сочувствии, хотя и считает путь, которым шел Александр, закономерным. Лизавета Александровна говорит в эпилоге своему самодовольному племяннику о том, что она перестала его понимать: «Помните, какое письмо вы написали ко мне из деревни?.. Там вы поняли, растолковали себе жизнь; там вы были прекрасны, благородны, умны... Зачем не остались такими? Зачем это было только на словах, на бумаге, а не на деле? Это прекрасное мелькнуло, как солнце из-за тучи - на одну минуту...» (I, 403).
Ее устами, вне всякого сомнения, говорит сам Гончаров. Критикуя Александра Адуева, он одновременно критикует и дядюшку. И сопоставляя между собой романтический идеализм и реалистическое делячество, Гончаров указывает на то, что в романтизме была не только изношенная фразеология, но и нечто ценное, утраченное буржуазным реализмом.
Было бы чрезвычайно интересно проследить гончаровский метод «за» и «против» в решении им одной из важнейших проблем его времени, а именно - проблемы женской эмансипации. Русская литература XIX в. знала два основных метода решения этого вопроса. Первое, единственно-правильное, революционно-демократическое решение предложил Чернышевский. Согласно ему женщина не только имела право на личную свободу, но и обеспечивалась материальными предпосылками для того, чтобы стать независимой (мастерские Веры Павловны). Согласно другому, реакционному, решению проблемы, предложенному Достоевским в «Преступлении и наказании», женщине предлагалось бросить всякие помыслы об уходе из подвала и о «швейных машинках»; она должна была действовать на падших кротостью, милосердием, бесконечным христианским самоотвержением (образ Сонечки Мармеладовой).
Гончаров отбрасывает оба эти решения вопроса. Отказываясь вместе итти с революционным демократом Чернышевским, Гончаров в то же время видит ущербность религиозно-нравственных мер, предлагаемых Достоевским. Он намерен обновить буржуазную семью изнутри, без потрясений и резких перемен. В одной своей статье 70-х годов Гончаров писал: «Основы семейного союза кажутся неудовлетворительны: попытки устроить новый образ семейных уз не привели к какому-нибудь положительному выводу самый вопрос: практика жизни не выработала ничего лучшего, более прочного (явный намек на гражданский брак, столь популярный в 60-70-е
годы. - А. Ц. ). Но самые стремления и совокупные труды серьезных умов, разъясняя вопрос, бросили яркий свет на неравноправность обеих брачущихся сторон и пришли к практическим решениям и определениям относительно имущественных и других прав и привилегий, к возможному уравнению их для той и другой стороны» (СП, 119).
Выраженная здесь программа как нельзя более характерна для Гончарова-романиста. Не подымаясь до высоты революционного отрицания современного ему буржуазного брака, Гончаров тем не менее указывает на необходимость «равноправия обеих брачущихся сторон». В «Обыкновенной истории» он с осуждением изображает женитьбу Александра на девушке, согласия которой он так и не удосужился спросить. Характерна жизненная драма Лизаветы Александровны, в сущности, купленной ее мужем и загубившей свою жизнь в комфортабельном доме петербургского дельца. Историей этой прекрасной, умной и сердечной женщины Гончаров впервые продемонстрировал уродливые формы буржуазного брака. Он вернулся к этой теме в «Обломове», показывая все более растущее томление Ольги, которая не находит в браке со Штольцем необходимого ей духовного содержания. Гончаров - убежденный противник брака, который был бы только «формой, а не содержанием, средством, а не целью; служил бы широкой и неизменной рамкой для визитов, приема гостей, обедов и вечеров, пустой болтовни...» (III, 240). Как добиться этого обновления супружеских отношений, Гончаров не знает. Он не приемлет того единственно-надежного метода революционной перестройки общества, которая освободила бы женщину от ее состояния «домашней рабыни» . Умеренный либерализм политической идеологии Гончарова заставляет его ограничиться критикой существовавшей в его пору формы брака. Однако для 40-50-х годов прошлого века и эта осторожная критика имела безусловно прогрессивное значение.
Ратуя за равноправие в пределах современной ему семьи (III, 225), Гончаров демонстрирует перед своими читателями духовную красоту русской женщины.
Критика уже установила отчужденность Гончарова от так называемых «вечных вопросов» бытия. Он не был заражен «мировой скорбью» романтиков, ему ни на одной стадии развития не были свойственны и пессимистические настроения Тургенева последнего периода его жизни. Характерно, что в творчестве Гончарова почти никак не нашли себе развития фантастические мотивы, столь частые в повестях Гоголя, Тургенева,
Достоевского и даже Льва Толстого (припомним, например, сон, который одновременно видят Каренина и Вронский). Предельно-трезвый, почти рационалистический ум Гончарова свободен от преклонения перед «страшным», «потусторонним», мистическим. Нет в творчестве Гончарова и того религиозного пафоса, без которого нельзя себе представить Достоевского и Льва Толстого последнего периода его жизни. Внешнюю набожность, присущую Гончарову, никак нельзя смешивать с религиозным чувством в подлинном смысле. Веры в бога нет и у героев Гончарова: Александр Адуев равнодушен к религии (см. сцену посещения им церкви - I, 369); в «Обрыве» часовенка с образом Христа многократно изображается в связи с духовными сомнениями Веры; но этот символ христианской веры не пробуждает в героине Гончарова ничего подлинно-религиозного, к тому же он введен в роман с явным намерением показать духовное перерождение мятущейся девушки. Что касается до Обломова, Штольца, Райского и других, то они, конечно, лишены религиозного чувства.
Эта характерная особенность мировоззрения Гончарова отражается на изображении им кончины человека. Автору «Обломова» чужд страх смерти, который так сильно владел Тургеневым. Смерть для него - только конец жизни; он говорит о ней кратко и почти безразлично. В «Обыкновенной истории» романист повествует о затруднительном положении Александра Адуева, не знавшего, как сообщить матери о своем решении вернуться в столицу. «Но, - замечает Гончаров, - мать вскоре избавила его от этого труда. Она умерла» (I, 376). В «Обломове» смерть изображена метафорически: «Как зорко ни сторожило каждое мгновение его жизни любящее око жены, но вечный покой, вечная тишина и ленивое переползание изо дня в день тихо остановили машину жизни. Илья Ильич скончался, повидимому, без боли, без мучений, как будто остановились часы, которые забыли завести...» (III, 267). Мы не видим процесса умирания Обломова: он заменен рядом экспрессивных образов, которые совершенно меняют тон рассказа. Далее Гончаров снова говорит о смерти, но опять-таки не как о процессе, а как о результате, сосредоточивая свое внимание на изображении тела умершего: «Однажды утром Агафья Матвеевна принесла было ему, по обыкновению, кофе и - застала его так же кротко покоящимся на одре смерти, как на ложе сна, только голова немного сдвинулась с подушки, да рука судорожно прижата была к сердцу, где, повидимому, сосредоточилась и остановилась кровь» (III, 267).
Мы не найдем у Гончарова ужаса его героев перед смертью, хотя они и не хотят ее прихода. Так, Илья Ильич «предчувствовал близкую смерть и боялся ее» (там же); так, находящаяся
в бедности Агафья Матвеевна «от ужаса даже вздрогнет, когда вдруг ей предстанет мысль о смерти; хотя смерть разом положила бы конец ее невысыхаемым слезам, ежедневной беготне и еженочной несмыкаемости глаз» (III, 192). Самый драматический момент человеческого существования Гончаровым опрощен, изображение его прозаично. Смерть у него буднична, она иногда овеяна лиризмом, но никогда не имеет на себе трагического отпечатка.
Гончаров любит жизнь, которую он рисует во всех ее фазах, от колыбели до непривлекательной, но неизбежной и потому нестрашной могилы. В «Сне Обломова» мы читаем: «... воображению спящего Ильи Ильича начали... по очереди, как живые картины, открываться сначала три главные акта жизни, разыгрывавшиеся как в его семействе, так у родственников и знакомых: родины, свадьбы, похороны. Потом потянулась пестрая процессия веселых и печальных подразделений ее: крестин, именин, семейных праздников, заговенья, разговенья, шумных обедов, родственных съездов, приветствий, поздравлений, официальных слез и улыбок» (II, 159). Это восприятие жизни «интегрально»: оно синтезирует отдельные эпизоды человеческого бытия в единый и целостный поток.
Талант Гончарова раскрывается, между прочим, в изображении родственных и органических привязанностей, связей и традиций. Непогрешимые «правила» Беловодовой не принадлежат ей - они «тетушкины, бабушкины, дедушкины, прабабушкины, прадедушкины» (IV, 29), - это правила ее многочисленных предков. Бабушка пишет Райскому: «Женись, Борюшка, ты уж давно в летах, тогда и девочки мои не останутся после меня бездомными сиротами. Ты будешь им братом, защитником, а жена твоя доброй сестрой» (IV, 154). Гончаров - поэт «органических привязанностей» семьи, рода.
В его романах отражено широкое и полноводное течение жизни. «Несется в вечность, как река, один безошибочный на вечные времена установившийся поток жизни» (IV, 301). Гончаров - поэт такой жизни, которая «чередовалась обычными явлениями, не внося губительных перемен» (III, 353). Иногда эта жизнь превращается в «бесцельную канитель, без идей, без убеждений, без определенной формы, без серьезных стремлений и увлечений, без справок в прошлом, без заглядывания в будущее. Если и было дело, оно тянулось вяло, сонно, как-нибудь» (IX, 199). Гончаров не проходит мимо этой «канители», но он и не избирает ее главным предметом своего изображения. Река жизни течет у него ровно, спокойно и медленно, по глубокому, давно уже определившемуся руслу: но она течет вперед, а не стоит на месте, и в этом ее течении заложена внутренняя закономерность. В очерках «Фрегата
Паллада» Гончаров и его спутники по путешествию погружаются взглядом в «широкую, покойно лежавшую перед нами картину, горящую, полную жизни, игры, красок» (VI, 259). В сущности, такую же картину изображает он и у себя на родине. Здесь, может быть, меньше эффектных красок, но ничуть не меньше внутренней «игры» и «жизни».
Изобличитель «обломовщины», то-есть общественной косности и инерции, Гончаров вместе с тем показывает, как эта косность размывается постепенным движением потока жизни. Спокойная или плавно-волнующаяся гладь не должна нас обманывать - под ней происходит непрерывное течение потока. Это - прогресс, часто невидимый невооруженным глазом, но тем не менее неослабно действующий. «Год прошел со времени болезни Ильи Ильича. Много перемен принес этот год в разных местах мира: там взволновал край, а там успокоил; там закатилось какое-нибудь светило мира, там засияло другое, там мир усвоил себе новую тайну бытия, а там рушились в прах жилища и поколения. Где падала старая жизнь, там, как молодая зелень, пробивалась новая... И на Выборгской стороне, в доме вдовы Пшеницыной, хотя дни и ночи текут мирно, не внося буйных и внезапных перемен в однообразную жизнь, хотя четыре времени года повторили свои отправления, как в прошедшем году, но жизнь все-таки не останавливалась; все менялась в своих явлениях, но менялась с такой медленною постепенностью, с какой происходят геологические видоизменения нашей планеты: там потихоньку осыпается гора, здесь целые века море наносит ил или отступает от берега и образует приращение почвы» (III, 119).
Глубоко ошибся бы тот, кто счел бы эту аналогию быта Пшеницыной с «видоизменениями нашей планеты» просто оригинальным сравнением Гончарова. Нет, в приведенном отрывке содержится подлинное зерно его художественного метода. Он неослабно следит за «медленною постепенностью» жизни, неуловимо меняющей свои контуры. Его влечет к изображению тех «бесконечно-малых» явлений, из которых складывается жизнь обыкновенного, рядового человека. События иногда нарушают размеренное течение этой жизни. Пусть эти события незначительны, но и о них следует судить с точки зрения законов среды, в которой они происходят: ведь «громовой удар, потрясая основания гор и огромные воздушные пространства, раздается и в норке мыши, хотя слабее, глуше, но для норки ощутительно» (III, 253).
Гончаров не любит рассказывать только о том, что творится на поверхности жизни. Он стремится глубоко забраться в ее, недра, дойти до тех пластов, которые пребывают неизменными, в то время как плуг бороздит поверхность. Деятельно
работающий плуг Штольца бессилен против инертности «обломовщины». Так и Райский со всеми его новациями ничего не может изменить ни в среде Беловодовой, ни в жизни обитателей Малиновки. Прогресс, несомненно, существует, но он выражается, по мнению Гончарова, в постепенном усовершенствовании традиции, в медленном, но единственно надежном изменении недр человеческого быта. Главное внимание свое Гончаров отдает именно этой органической эволюции «почвы» в тех ее слоях, до которых даже не доходит забирающий по поверхности плуг. Именно эта без перерывов и остановок развивающаяся жизнь и является предметом изображения Гончарова. И даже идеалист-новатор, учащий людей почвы, как им следует жить, невольно для себя отдает должное органическому бытию среды, в которой он очутился: «Райскому нравилась эта простота форм жизни, эта определенная, тесная рама, в которой приютился человек и пятьдесят-шестьдесят лет живет повторениями, не замечая их» (IV, 286). «Как это они живут? думал он, глядя, что ни бабушке, ни Марфиньке, ни Леонтию никуда не хочется, и не смотрят они на дно жизни, что лежит на нем, и не уносятся течением этой реки вперед, к устью, чтоб остановиться и подумать, что это за океан, куда вынесут струи...» (IV, 286).
Эти сравнения Гончарова почти космичны. Это, однако, не космос бесконечного звездного пространства. Гончарова не влекут к себе «миры иные»: он весь на земле. Человеческую жизнь он сравнивает с медленными изменениями нашей планеты, с течением реки к устью, с величавым дыханием океана, принимающего струи этой реки в свое лоно.
Из этих своеобразных, но вполне определенных представлений о жизни формируется тот художественный метод гончаровского романа, который 90 лет тому назад блистательно охарактеризовал Добролюбов: «...Гончаров, - писал он, - является перед нами прежде всего художником, умеющим выразить полноту явлений жизни. Изображение их составляет его призвание, его наслаждение; объективное творчество его не смущается никакими теоретическими предубеждениями и заданными идеями, не поддается никаким исключительным симпатиям. Оно спокойно, трезво, бесстрастно...» .
Мы не поймем вполне этот художественный метод Гончарова, если не охарактеризуем предварительно его воззрения на природу искусства. Эстетика Гончарова формировалась в 30-е годы под известным воздействием немецкой эстетики: как
он сам признавался А.Ф. Кони, «особенно меня интересовал Винкельман». Однако это влияние в 40-е годы вытеснялось воздействием формировавшейся в ту пору русской революционно-демократической эстетики. По главным вопросам эстетики и прежде всего по вопросу о «мышлений образами» Гончаров примыкал к Белинскому, но он, конечно, не был до конца его последовательным учеником. Отсюда - временное сближение Гончарова с Дружининым, эстетическому ревизионизму которого Гончаров, несомненно, сочувствовал в 50-е годы. Позднее Гончаров отошел от Дружинина; характерно, что уже в предисловии к «Обрыву» (1870) он писал, что «русская беллетристика со времени Гоголя все еще следует по пути отрицания в своих приемах изображения жизни, - и неизвестно, когда сойдет с него, сойдет ли когда-нибудь и нужно ли сходить?» (СП, 102).
Основываясь на реалистических завоеваниях Пушкина, Лермонтова и Гоголя, блестяще истолкованных Белинским, Гончаров считает реализм единственно надежным методом искусства, основным его законом: «Художественная верность изображаемой действительности, т. е. “правда” - есть основной закон искусства - и этой эстетики не переделает никто» (СП, 124). Однако, в отличие от Белинского, Гончаров отказывается признать законным новейший, революционно-демократический этап в развитии русского реализма, который он отвергает именно из-за его революционного духа, из-за стремления к насильственному изменению жизни. «Нет, - восклицает Гончаров в одной из своих статей 70-х годов, - будем держать школы старых учителей и итти проложенным ими путем, не отказываясь, конечно, от истинных, законных развитий, новых шагов в искусстве, хоть бы от того же самого реализма... когда эти шаги не будут pas de g?ants и когда он откажется от претензии колебать основные законы искусства!» (VIII, 261).
Легко уловить в этом заявлении недовольство против тенденциозных произведений «новейшего времени», против новой эстетики, которую Гончаров несправедливо называет «искусством без искусства» (там же).
Как последователь «школы старых учителей», Гончаров подчеркивал громадную общественную роль искусства. «Имея за себя “правду”, истинный художник всегда служит целям жизни, более близко или отдаленно» (СП, 124). «... на искусстве, - указывает Гончаров, - лежит серьезный долг - смягчать и улучшать человека» (СП, 136). Характерна, между прочим, эта умеренная формулировка - Щедрин, разумеется, сказал бы о коренной переделке человека. Однако и Гончаров указывает, что, выполняя этот «серьезный долг», искусство
«должно представлять» человеку «нельстивое зеркало его глупостей, уродливостей, страстей со всеми последствиями, словом - осветить все глубины жизни, обнажить ее скрытые основы и весь механизм, - тогда с сознанием явится и знание, как остеречься» (СП, 136). «...в наше время, когда человеческое общество выходит из детства и заметно зреет, когда наука, ремесла, промышленность делают серьезные шаги, искусство отставать от них не может. Оно имеет тоже серьезную задачу - это довершить воспитание и совершенствовать человека. Оно так же, как наука, учит чему-нибудь, остерегает, убеждает, изображает истину, но только у него другие пути и приемы: эти пути - чувства и фантазия. Художник тот же мыслитель, но он мыслит не посредственно, а образами. Верная сцена или удачный портрет действуют сильнее всякой морали, изложенной в сентенции» (СП, 135).
В этом и подобных высказываниях Гончарова чувствуется ученик Белинского, который восторженно принял эту эстетическую формулу, как принял ее и другой его ученик - Тургенев.
Однако Гончаров считается с опасностью рационалистического понимания этой формулы. «Художник мыслит образами, сказал Белинский, и мы видим это на каждом шагу, во всех даровитых романистах. Но как он мыслит, - вот давнишний, мудреный, спорный вопрос! Одни говорят - сознательно, другие - бессознательно. Я думаю, и так и этак, смотря по тому, что преобладает в художнике - ум или фантазия и так называемое сердце? Он работает сознательно, если ум его тонок, наблюдателен и превозмогает фантазию и сердце. Тогда идея нередко высказывается помимо образа. И если талант не силен, она заслоняет образ и является тенденциею. У таких сознательных писателей ум досказывает, чего не договаривает образ - и их создания бывают нередко сухи, бледны, неполны: они говорят уму читателя, мало говоря воображению и чувству. Они убеждают, учат, уверяют, так сказать, мало трогая» (СП, 150).
Гончаров недолюбливает «таких сознательных писателей». Утверждая, что они тенденциозны, он в сущности отрицает «с порога» все революционно-демократическое искусство, в котором «ум» играет руководящую роль, отрицает сатиру вообще и сатиру Щедрина, в частности. Разумеется, он делает здесь шаг назад от Белинского 40-х годов.
Характерно его сожаление по поводу того, что у Обломова «в последнем свидании со Штольцем только вырывается... несколько сознательных слов - напрасно я вставил их». Так же недоволен Гончаров и тем, что «Штольц, уходя в последний раз, в слезах (? -А. Ц. ) говорит: “Прощай, старая Обломовка:
ты отжила свой век!” И того бы не нужно было говорить» (СП, 160). Эта самокритика романиста столь же для него характерна, сколь и неубедительна. Гончаров недоволен тем, что его персонажи в решительный момент своей жизни произносят суд над собою или над другими - это кажется ему излишней погоней «за сознательной мыслью». «Не даром Белинский в своей рецензии об “Обыкновенной истории” упрекнул меня за то, что я там стал на «почву сознательной мысли!» Образы так образы: ими и надо говорить» (СП, 160).
Преуменьшая руководящую роль идеи в произведении, Гончаров вступает в противоречие с художественной практикой собственных романов. В основе «Обыкновенной истории», «Обломова» и «Обрыва» неизменно лежала определенная идея, раскрытая сложно и противоречиво, но всегда подчиняющая себе структуру данного романа. Однако, положив перо художника и начав после этого формулировать свои эстетические воззрения, Гончаров становится все более недоверчивым к средствам публицистического искусства. Он пишет: «...новая школа уже сделала себе специальность, можно сказать, ремесло, служить только утилитарным целям, заставить искусство искать только всяких зол, под святым предлогом любви и сострадания к ближнему» (VIII, 69). Эти строки содержат прямое обвинение нового искусства в узости, лицемерии и лжи. Гончаров решительно отрицает «утилитаризм»: «Принудить искусство сосредоточивать свои лучи над «злобой дня» и служить пеленками вчера родившемуся ребенку - значит лишать его обаятельной силы и обрекать на мелкую роль, в которой оно окажется бессильно и несостоятельно, как это и подтверждается на каждом шагу так называемыми тенденциозными произведениями, живущими эфемерной жизнью, за отсутствием объективной, творческой силы» (СП, 124). Гончаров не утруждает себя доказательствами, почему, например, «Что делать?» Чернышевского, к которому его упреки относятся в первую очередь, якобы лишено «творческой силы».
С исключительной настойчивостью стремится Гончаров доказать, что «ум», поднятый на щит революционно-демократической эстетикой 60-х годов, в действительности вовсе не доминирует в сфере подлинного, не «эфемерного» искусства. «Писать художественные произведения только умом - все равно, что требовать от солнца, чтобы оно давало лишь свет, но не играло лучами - в воздухе, на деревьях, на водах, не давало бы тех красок, тонов и переливов света, которые сообщают красоту и блеск природе! Разве это реально?» (VIII, 256). Те, кто хотят творить умом, не понимают, что всего одолеть им одним нельзя: «приходит на помощь не зависящая от автора сила
художественный инстинкт. Ум развивает, как парк или сад, главные линии положения, придумывает необходимости, а приводит это в исполнение и помогает сказанный инстинкт» (VIII, 264).
Здесь ум объявляется почти равным «инстинкту». Однако в других случаях романист высказывается категоричнее. Он готов допустить, что произведение может писаться с помощью одной фантазии, смысл его все равно дойдет до читателей. «У... сознательных писателей ум досказывает, чего не договаривает образ, и их создания бывают нередко сухи, бледны, неполны; они говорят уму читателя, мало говоря воображению и чувству. Они убеждают, учат, уверяют, так сказать мало трогая. И наоборот - при избытке фантазии и при относительно меньшем против таланта уме - образ поглощает в себе значение, идею; картина говорит за себя и художник часто сам увидит смысл - с помощью тонкого критического истолкователя, какими, например, были Белинский и Добролюбов» (VIII, 208). Из этого рассуждения с неоспоримостью следует вывод, что Гончаров 70-х годов предпочитает искусство, в котором ум превозмогается «фантазией и сердцем», что он предпочитает уму инстинкт, тем самым преувеличивая роль бессознательного в творчестве художника. Мы говорим здесь, однако, о теоретических воззрениях Гончарова последнего периода его жизни, а не о его более ранней художественной практике, которая, как указано выше, нередко противоречила его собственным позднейшим декларациям.
Автор «Лучше поздно, чем никогда» борется с натурализмом в двух его разновидностях - русской и западноевропейской. Именно их Гончаров имеет в виду, говоря: «Конечно, реализм есть одна из капитальных основ искусства, но только не тот реализм, который проповедует новейшая школа за границей и отчасти у нас!» (VIII, 254). Главный противник Гончарова - натурализм западноевропейский, точнее французский, натурализм Золя и его школы. Гончаров ведет с этим направлением непримиримую борьбу. Он доказывает золяистам, что, в отличие от науки, искусство имеет творческий характер именно потому, что оно отражает в себе субъективное мировоззрение художника. «Ученый ничего не создает, а открывает готовую и скрытую в природе правду, а художник создает подобия правды, т. е. наблюдаемая им правда отражается в его фантазии, и он переносит эти отражения в свое произведение. Это и будет художественная правда. Следовательно, художественная правда и правда действительности - не одно и то же» (VIII, 255).
Статья «Лучше поздно, чем никогда» - это эстетическое «исповедание веры» Гончарова - неустанно подчеркивает значение
фантазии для художественного творчества. Мы читаем в ней: «Современным реалистам остается придерживаться одной исторической правды и ее одну освещать своею художественною фантазией, что они и делают, без примеси чувства веры - и от этого образы их будут, может быть, верны - выражая событие, но сухи и холодны, без тех лучей и тепла, которые дает чувство» (СП, 245). «Художник пишет не один свой сюжет, а и тот тон, которым освещается этот сюжет в его фантазии. Реализм, правду сказать, посягает отделаться от этого, но это ему не удастся. Он хочет добиться какой-то абсолютной, почти математической правды, - но такой правды в искусстве не существует. В искусстве предмет является не сам собой, а в отражении фантазии, которая и придает ему тот образ, краски и тон, какой установил исторический взгляд и какой осветила фантазия» (СП, 245). «“Пишу одну природу и жизнь, как она есть!” говорят они. - Но ведь стремление к идеалам, фантазия - это тоже органические свойства человеческой природы. Ведь правда в природе дается художнику только путем фантазии!» (VIII, 255). «У нее (природы. - А. Ц. ) свои слишком могучие средства. Из непосредственного снимка € нее выйдет жалкая, бессильная копия. Она позволяет приблизиться к ней только путем творческой фантазии» (VIII, 257). Гончаров предъявлял натурализму вполне справедливые обвинения. Разумеется, он не был здесь одинок - почти одновременно с ним то же самое по адресу «натуралистов» говорили Гаршин, Успенский, Щедрин, Короленко, выражавшиеся более резко и определенно.
В самом деле, Гаршин в письме к В. Латкину писал о «натурализме и протоколизме»: «Это теперь в расцвете или, вернее, в зрелости, и плод внутри уже начинает гнить...» Успенский писал в своих «Письмах с дороги»: «Совлекая с этих изображений (натуралистов». - А. Ц. ) всю ненужную, неправдивую, преувеличенную грязь и мерзость, мы все-таки получим пустую, тревожную, праздную и “ничем не согретую” жизнь». Щедрин в очерках «За рубежом» говорил о безидейности «натурализма», о «бестиальности» его тематики, о фотографичности метода натуралиста, который «никогда не знает, что он сейчас напишет, а знает только, что сколько насидит, столько и напишет. И никто его обуздать не может; ни обуздать, ни усовестить, потому что он на все усовещевания ответит: я не идеолог, а реалист, я описываю только то, что в жизни бывает» .
Гончаров говорил спокойнее Щедрина и даже Гаршина и Успенского - ему была вообще присуща известная «респектабельность», но по существу он здесь был к ним близок. У натуралистов отсутствует внутреннее содержание. В их творческом методе доминирует призрачная «математичность»,
фиктивная научность, базирующаяся на реальном документе, но нет «веры», стремления к «идеалам». Гончаров совершенно прав, считая последние обязательными для подлинного искусства. Он совершенно прав, указывая на то, что без творческого горения художника искусство становится бескрылым: «Нет, напрасно будет пророчить себе этот новый род реализма долгий век, если он откажется от пособия фантазии, юмора, типичности, живописи, вообще поэзии и будет проявляться одним умом, без участия сердца!» (VIII, 258).
Гончаров оказался прав в этом своем приговоре натурализму: течение это было относительно недолговечным на Западе и еще более скоротечным в России. Литература русского народа, верная великим задачам общественного воспитания и пропаганды, отринула от себя холодное натуралистическое искусство, как отринула она от себя все антиобщественное и пассеистское. Суд Гончарова в этой его части совпадал с тем, что говорили писатели демократического лагеря.
Есть, впрочем, основания думать, что в своей борьбе с «новым реализмом» Гончаров метил не только в натуралистов. Об этом говорит такое, например, место его статьи «Лучше поздно, чем никогда»: «Замечательно, что некоторые из героев дня, ставших во главе новейшего реализма в искусстве, обязаны были лучшими своими произведениями именно тем могучим орудиям искусства: фантазии, юмору, типичности, словом - поэзии, от которых отрекаются теперь» (VIII, 258). Статья эта появилась в 1879 г. Кого из русских литераторов в ту пору имел Гончаров в виду, кого из них мог он называть главой «новейшего реализма»? Повидимому, только что умершего Некрасова и особенно Щедрина. Он не понимал, однако, что ни один из этих вождей революционно-демократической литературы никогда не отстранял от себя могучее орудие фантазии, типичности, юмора.
Наш романист протестует против чрезмерной объективности писательского метода, при котором личное «я» художника исчезает, расплываясь в изображаемом объекте. В «Литературном вечере» он говорил об этом устами профессора словесности: « - Еще замечу об объективности, сказал профессор. - Новые писатели хотят простереть ее слишком далеко. Художник, конечно, не должен соваться своею особою в картину, наполнять ее своим “я” - это так! Но его дух, фантазия, мысль, чувство - должны быть разлиты в произведении, чтоб оно было созданное живым духом тело...» (VIII, 75). И конкретизируя эту мысль в выразительном сравнении, профессор говорил: «Живая связь между художником и его произведением должна чувствоваться зрителем или читателем; они, так сказать, с помощью чувств автора наслаждаются картиною,
как, например, нам в этой комнате всем покойно, тепла, уютно... но если б вдруг наш гостеприимный хозяин скрылся куда-нибудь - комната перестала бы согреваться его радушием, и мы остались бы как в трактире» (VIII, 75).
О необходимости этого субъективного элемента Гончаров говорил и от своего лица. Он хвалил стихи Полонского за «присутствие души повсюду», отмечал «теплое душевное отношение к каждой... строке, стиху, звуку. Ваши идеи, мысли, думы - кажутся плодами не столько ума, сколько чувства, у которого, т. е. у чувства и души, ум ваш просит позволения высказываться. Вот это присутствие души повсюду - и дорого у вас. Новое время мало дорожит этим качеством, без которого всякий поэт неполон (как ни будь талантлив), а лирический - просто невозможен. У многих оно кроется за объективностью формы; другие, стыдясь, подавляют его или силой фантазии или остроумием» (СП, 267).
Наконец, если Гончаров «писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало», то оба эти элемента совсем не были адэкватны друг другу. Не подлежит сомнению, что «прираставшее» неизмеримо превосходило по своему значению собственную жизнь Гончарова.
Здесь, как и вообще, главное было не в том, из какого источника черпал Гончаров материал для своих образов, но в том, как он использовал этот добытый им материал. Характерной особенностью творчества Гончарова было не то, что он избегал изображать самого себя, но то, что он и себя самого изображал с предельной объективностью. Личные черты Гончарова, как мы видели, есть и в Адуеве-племяннике, и в Райском. Это нисколько не лишает эти образы их глубокой типичности.
Творя всеми способами, в том числе и при помощи самонаблюдения, Гончаров умел придавать отдельным чертам своего «я» общественную объективность.
Некоторые критики довели понимание объективности гончаровского метода до абсурда. Так, например, М. Протопопов низводил ее до уровня обломовского безучастия, находя у Гончарова полную апатию и индифферентизм. Нет нужды в настоящее время подробно критиковать это неверное утверждение, которое, помимо всего, еще и методологически порочно: по-обломовски апатичный романист, конечно, никогда не мог бы осудить «обломовщину» так, как осудил ее Гончаров. В изображении этих критиков Гончаров был двойником Скудельникова, беллетриста из «Литературного вечера», который «как сел, так и не пошевелился в кресле, как будто прирос или заснул. Изредка он поднимал апатичные глаза, взглядывал на автора и опять опускал их. Он, невидимому, был равнодушен и к этому чтению, и к литературе - вообще ко всему
вокруг себя» (VIII, 12). Забывалось, что Гончаров изобразил здесь себя иронически, преувеличивая свою индифферентность. Скудельников был объявлен двойником Гончарова, «апатичные глаза» превратились в апатическое поведение, из кажущегося равнодушия (невидимому») родилось равнодушие программное, возведенное до уровня художественного метода. Отсюда уже было недалеко до того, чтобы самый метод Гончарова назвать безличным!
В действительности творческий метод Гончарова не имеет ничего общего с индифферентизмом. Он базируется на признании того, что в мире нет ничего, что не было бы достойно правдивого отображения. Гоголь провозгласил этот принцип в своей повести «Портрет»: «Нет ему (художнику. - А. Ц. ) низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом...» (из первоначальной редакции повести).
Гончаров солидаризуется здесь с Гоголем, но он утверждает этот принцип без гоголевской патетической приподнятости тона. Действительность, какая бы она ни была, нуждается в эпически-спокойном изображении. Гончаров его осуществляет во всем своем творчестве. В основе его таланта лежит громадная наблюдательность, плоды которой тотчас получают эстетическую оформленность. Созерцание действительности у Гончарова не пассивно: оно только полно спокойной и уравновешенной бодрости. Отсюда рождается объективность Гончарова. Ее характерными особенностями являются ровность изображения, трезвость оценок, уравновешенность частей, гармонически сливающихся в один целостный образ.
Гончарову чужды увлечения, которые кажутся ему следствием недостаточной уравновешенности писателя. В своих «Заметках о личности Белинского» Гончаров снисходительно журит Белинского за тот недостаток, который-де мешал ему быть вполне беспристрастным критиком: «Уравновешивать строго и покойно достоинства и недостатки в талантах - было не в горячей натуре Белинского» (VIII, 183). Конечно, это недоверие к «субъективности» глубоко ошибочно, но оно характерно для Гончарова.
Любопытны те формулы, при «помощи которых Гончаров характеризовал в своих произведениях близкий ему принцип объективного творчества. В «Обыкновенной истории» он пишет о том, что писатель должен обозревать «покойным и светлым взглядом жизнь и людей вообще» (I, 231). В тексте «Обрыва» имеются два характерных упоминания об объективности. Райский «уже стал смотреть на Софью, на Милари, даже на самого себя со стороны, объективно» (IV, 181). Марфиньку Райскому «хотелось бы рисовать... бескорыстно, как артисту, без себя,
вот как бы нарисовал он, например, бабушку. Фантазия услужливо рисовала ее во всей старческой красоте: и выходила живая фигура, которую он наблюдал покойно, объективно» (IV, 224). Итак, изображать объективно - значит изображать покойно и со стороны. Объективному изображению помогает, если художник имеет между собою и объектом определенную временн?ю дистанцию: «Теперь мы несколько отодвинулись от этого явления, и можно всем быть хладнокровнее и беспристрастнее» (VIII, 237).
Романисту свойственны были интерес и любовь к воспроизведению всяких людей во всех положениях - и в драматических, и в комических. В глазах Гончарова это также являлось характерной особенностью подлинно объективного метода. «Художник-писатель должен быть объективен, т. е. беспристрастен, - продолжал редактор, - должен писать, как. например, граф Толстой, всякую жизнь, какая попадется ему под руку, потому что жизнь всего общества - смешанна и слитна» (VIII, 83). И уже от своего собственного лица Гончаров указывал: «Высокий талант не выкинет, конечно, из своей картины страданий, бед, зол, тягостей и нужд человеческих, - но кисть его при этом не обойдет и светлых сторон жизни; тогда только и возможна художественная правда, когда и то и другое будет уравновешенно, как оно есть и в самой жизни» (VIII, 68). По мнению Гончарова, писателю не следует увлекаться высказыванием своих личных взглядов: «Плута все узнали бы разом и отвернулись бы от него. Прибавь я к этому авторское негодование, тогда был бы тип не Волохова, а изображение моего личного чувства, и все пропало бы. Sine ira - закон объективного творчества» (VIII, 240).
Таковы различные грани объективности Гончарова. К ним следует прибавить и еще одну ее характеристическую особенность, еще более приближающую его к «объективистам», - а именно, отсутствие оценки изображаемого. «Он (т. е. Гончаров. - А. Ц. ) вам не дает и, повидимому, не хочет дать никаких выводов. Жизнь, им изображаемая, служит для него не средством к отвлеченной философии, а прямою целью сама по себе. Ему нет дела до читателя и до выводов, какие вы сделаете из романа: это уж ваше дело. Ошибетесь - пеняйте на свою близорукость, а никак не на автора. Он представляет вам живое изображение и ручается только за его сходство с действительностью; а там уж ваше дело определить степень достоинства изображенных предметов; он к этому совершенно равнодушен» .
Добролюбов, которому принадлежат эти строки, вслед за тем противопоставил. Гончарова «субъективным» писателям, выставляющим на первый план свое глубоко лирическое начало.
Это - «...художники, сливающие внутренний мир души своей с миром внешних явлений и видящие всю жизнь и природу под призмою господствующего в них самих настроения. Так, у одних все подчиняется чувству пластической красоты, у других по преимуществу рисуются нежные и симпатичные черты, у иных во всяком образе, во всяком описании отражаются гуманные и социальные стремления и т. д. Ни одна из таких сторон не выдается особенно у Гончарова. У него есть другое свойство: спокойствие и полнота поэтического миросозерцания. Он ничем не увлекается исключительно или увлекается всем одинаково. Он не поражается одной стороной предмета, одним моментом события, а вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления, и тогда уже приступает к их художественной переработке. Следствием этого является, конечно, в художнике более спокойное и беспристрастное отношение к изображаемым предметам, большая отчетливость в очертании даже мелочных подробностей и ровная доля внимания ко всем частностям рассказа» .
Нельзя сказать, чтобы эта характеристика гончаровского художественного метода была бы в равной мере применима ко всем его романам. В последнем из них, «Обрыве», несомненно гораздо значительнее проявляется элемент «личных» настроений, политического пристрастия. Но и «Обрыв» в своей лучшей части полон «спокойствия и полноты поэтического миросозерцания».
Идейно-художественная проблематика Гончарова требовала для своей реализации определенных литературных жанров. Их не могла дать лирическая поэзия, неизбежно субъективная, предоставлявшая мало возможностей для обрисовки широких картин действительности.
Гончаров не питал особого влечения к лирике, с которой он порвал все связи уже ко времени писания «Обыкновенной истории». Характерно, что даже такого заядлого поэта «чистого искусства», как К. Р., он стремился перевести в иную веру, рекомендовал ему расширить жанровый диапазон его уныло однообразной поэзии. Особенно в этом плане любопытно его письмо к К. Р. от 3 октября 1888 г.: «Вы полагаете, что Ваше призвание в поэзии есть собственно лирика. Может быть и так: Вы - лирический поэт по преимуществу, но это не исключает и не должно исключать эпического и драматического элемента в Вашей поэзии. В наше время, впрочем начавшееся давно, рогатки сняты. Лирическая, драматическая и эпическая поэзии - как три сестры - тасуются между собою. В эпос вторгается иногда сильная драма, или лирический порыв нарушает
нередко спокойный ход повествования... Лирические излияния тоже не чужды драматизма» (СП, 348).
Не вполне удовлетворяла Гончарова и драма, - его, несомненно, стеснял суровый лаконизм этого рода творчества. «Строгая объективность драматической формы не допускает той широты и полноты кисти, как эпическая», - заметил Гончаров в своей статье о «Горе от ума» (VIII, 157). В кратком и попутном определении он прекрасно охарактеризовал то, что его самого пленяло в литературном творчестве. Но широта и полнота кисти полнее всего могла быть реализована в большой эпической форме.
Жанр романа постоянно привлекал к себе Гончарова и сделался любимейшей, избранной формой всего его творчества. «Вы не знаете, что в наше время газеты и роман сделались очень серьезным делом. Газета - это не только живая хроника современной истории, но и архимедов рычаг, двигающий европейский мир политики, общественных вопросов; а роман перестал быть забавой: из него учатся жизни. Он сделался руководствующим кодексом к изучению взаимных отношений, страстей, симпатий и антипатий... словом, школой жизни!» (VIII, 15). Так заявляет в рассказе «Литературный вечер» Лев Иванович Бебиков, с которым в данном случае солидарен и сам Гончаров. «Теперь все бросились на роман, - продолжал Бебиков, - одни пишут, другие читают. Государственные люди, политики, женщины, даже духовные лица написали много романов, и все учат или учатся уловлять тонкие законы индивидуальной, общественной, политической, социальной и всякой жизни - из романов!» (VIII, 16).
Нельзя ставить здесь знак равенства между Бебиковым и Гончаровым. Первый был не более чем дилетант, не ищущий «авторских лавров», а представляющий свой опыт «приятельскому кругу просто как плод... досуга». «Мне давно хотелось высказать несколько идей, наблюдений, опытов и взглядов на нашу общественную жизнь, на наши дела, досуги, даже страсти (в том кругу, как вы видели, к которому я имею честь принадлежать), между прочим, взгляд мой и на искусство, на литературу, и на роман тоже, как именно я его понимаю. Кроме того, я еще избрал роман, как форму, в которой мне легче высказывать, а слушателям удобнее узнать мои тезисы и мои цели» (VIII, 39). Бебикова привлекала в романе только исключительная свобода его формы.
В своем понимании романа к герою «Литературного вечера» близок Райский. «Есть одно искусство: оно лишь может удовлетворить современного художника - искусство слова, поэзия: оно безгранично. Туда уходит и живопись, и музыка, и еще там есть то, чего не дает ни то, ни другое» (IV, 268).
Гончаров, вероятно, был согласен с утверждениями Райского: «Стихи - это младенческий лепет. Ими споешь любовь, пир, цветы, соловья... лирическое горе, такую же радость - и больше ничего... Сатира - плеть: ударом обожжет, но ничего тебе не выяснит, не даст животрепещущих образов, не раскроет глубины жизни с ее тайными пружинами, не подставит зеркала... Нет, только роман может охватывать жизнь и отражать человека!» (IV, 268).
Еще раньше, в своем разговоре с Аяновым, Райский дал характеристику преимуществ формы романа, едва ли не самой широкой и всеобъемлющей из всех, какими располагает искусство художественного слова. «В роман, - говорит он, - все уходит - это не то, что драма или комедия - это, как океан, берегов нет или не видать; не тесно, все уместится там» (IV, 45). «Я буду писать роман, Аянов. В романе укладывается вся жизнь, и целиком, и по частям» (IV, 46).
По убеждению самого Гончарова, роман был наиболее современным из жанров: «Европейские литературы вышли из детства, и теперь ни на кого не подействует не только какая-нибудь идиллия, сонет, гимн, картинка или лирическое излияние чувства в стихах, но даже и басни мало, чтобы дать урок читателю. Это все уходит в роман, в рамки которого укладываются большие эпизоды жизни, иногда целая жизнь, в которой, как в большой картине, всякий читатель найдет что-нибудь близкое и знакомое ему. Поэтому роман и стал почти единственной формой беллетристики, куда не только укладываются произведения творческого искусства, как, например, Вальтер Скотта, Диккенса, Теккерея, Пушкина и Гоголя, но и не-художники избирают эту форму, доступную массе публики, чтоб провести удобнее в большинство читателей разные вопросы дня или свои любимые задачи: политические, социальные, экономические, даже рабочий вопрос и тот нашел место в романе Шпильгагена: “Один в поле не воин”. Но я не буду говорить об этих последних писателях: это не художники, и романы их без поэзии - не произведения искусства, а памфлеты, фельетоны или журнальные статьи, изображающие “злобу дня”» (СП, 135).
Последние строки этой цитаты очень любопытны. Гончаров приемлет не роман вообще, а такой роман, в котором общественно-психологическая проблематика раскрыта средствами художественной типизации, при помощи не только «ума», но и чувства, фантазии и юмора. В той же программной статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров повторяет: «Это правда, что роман захватывает все: в него прячется памфлет, иногда целый нравственный или научный трактат, простое наблюдение над жизнью или философское воззрение, но такие романы (или просто книги) ничего не имеют общего с искусством.
Роман - как картина жизни - возможен только при вышеизложенных условиях, не во гнев будь сказано новейшим реалистам» (VIII, 257).
Кого именно из «новейших реалистов» имеет в виду Гончаров, явствует из его письма к Ю.М. Богушевичу: «Я весьма благодарен Вам, почтеннейший Юрий Михайлович, за роман Шпильгагена “Вперед”, но он, как написано на обертке, есть продолжение другого романа “Загадочные натуры”, которого я не читал - и читать ни того, ни другого не буду. Я еще но совсем отдохнул от подвига не по силам и не по глазам, едва одолев в три недели “Один в поле не воин”. Про такие романы, как пишут г. г. Ауэрбах, Шпильгаген и т. п. можно сказать с Гоголем, что они “в большом количестве вещь нестерпимая!” Притом под романами я привык разуметь творческое воспроизведение жизни, а не трактаты о “злобе дня“ и новых вопросах. Может быть - это очень учено и глубокомысленно, но столько же и скучно. Основной их недостаток, что их нельзя читать...» (СП, 269).
Итак, Гончаров хотел писать - и писал - романы, в которых субъективный элемент его личной жизни был вплетен в широкую картину действительности, где изображение жизни, «как она есть», было осложнено фантазией писателя. Писать такие романы было трудно, и Гончаров неоднократно признавался в этом своим читателям. «Смешать свою жизнь с чужою, занести эту массу наблюдений, мыслей, опытов, портретов, картин, ощущений, чувств, une mer ? boire» (IV, 48). «“Une mer ? boire” -говорил он (Райский. - А. Ц. ), со вздохом, складывая листки в портфель» (IV, 319). Характерно, что это же сравнение романа с «морем», которое «предстоит выпить», фигурировало и в автокритической статье Гончарова, где оно употреблялось уже от его собственного лица: «Не понадобится быть самому автором, чтобы рассудить и решить о том невидимом, но громадном труде, какого требует построение целого здания романа!.. C"est une mer ? boire!» (СП, 194).
Писать роман Гончарову было трудно потому, что расстилавшаяся перед ним жизнь была «многостороння и многообразна» (IV, 367), а он в своем изображении не хотел поступиться ни одной из черт, характеризующих это «многообразие» действительности. К этому прибавилась и масса внешних трудностей. Как и Райскому, Гончарову хотелось «уехать куда-нибудь... подальше и поглубже, чтоб наедине и в тишине вдуматься в ткань своего романа, уловить эту сеть жизненных сплетений, дать одну точку всей картине, осмыслить ее и возвести в художественное создание» (IV, 385).
Добиться этого было для Гончарова почти невозможно.. Он только в раннем периоде своей жизни мог остаться «наедине»
со своим творчеством. Служба еще не взяла молодого Гончарова в свои тиски так сильно, как это произошло в середине 50-х годов. Кроме того, ему было трудно «дать одну точку всей картине». Действительность, которая именно в эту пору быстро изменялась, мешала Гончарову уловить эту «сеть жизненных сплетений». Такое смещение фокуса творческого внимания романиста со всей силой сказалось в его работе над «Обрывом».
Гончаров-романист был тяжел на подъем. Он не был способен, как Тургенев, почти мгновенно откликаться на «злобу дня», изображать жизнь по частям, в ее различных гранях и хронологических этапах. Именно так изображена была жизнь русского общества 40-70-х годов в шести романах Тургенева, с оперативной быстротой запечатлевавшего самые злободневные темы. Гончаров никогда не писал этим методом и решительно не был к этому способен. «Я писал медленно, потому что у меня никогда не являлось в фантазии одно лицо, одно действие, а вдруг открывался перед глазами, точно с горы, целый край, с городами, селами, лесами и с толпой лиц, словом, большая область какой-то полной, цельной жизни. Тяжело и медленно было спускаться с этой горы, входить в частности, смотреть отдельно все явления и связывать их между собой» (НИ, 11). Это было как нельзя более верно.
В противоположность Тургеневу, который дробил, дифференцировал свои замыслы, Гончаров их постоянно интегрировал, добиваясь в них максимальной многосторонности и многообразия в охвате жизни. Эта сторона таланта Гончарова поразила еще Белинского, который сказал об этом романисту. «“Чт? другому стало бы на десять повестей”, - заметил однажды Белинский про меня, еще по поводу “Обыкновенной истории”, - “у него укладывается в одну рамку”», - свидетельствовал Гончаров в статье «Лучше поздно, чем никогда» (СП, 161). И далее, в той же статье, он повторял: «Белинский сказал мне однажды, как упомянуто выше: “что другому стало бы на десять повестей, у него укладывается в одном романе!”» «Это, - лукаво добавлял вслед за этим Гончаров, - Белинский сказал про самую краткую из моих книг - “Обыкновенную историю”. Что сказал бы он об “Обломове”, об “Обрыве”, куда уложилась и вся моя, так сказать, собственная, и много других жизней?» (СП, 194).
Гончаров хорошо запомнил эти слова Белинского; он повторил их и позднее. «Недаром Белинский сказал однажды при нем про меня: другому его романа “Обыкновенная история” стало бы на десять повестей, а он все в одну рамку уместил!» И Тургенев буквально исполнил это, наделав из “Обрыва” “Дворянское гнездо”, “Отцы и дети”, “Накануне”
и “Дым”, возвращаясь не только к содержанию, к повторению характеров, но даже к плану его! А из “Обыкновенной истории” сделал “Вешние воды”» (НИ, 48).
Гончарову казалось несомненным фактом, что Тургенев взял у него сюжет «Обрыва», использовав его в ряде своих романов и повестей. Разумеется, это утверждение являлось, как мы уже говорили, плодом душевной болезни Гончарова, овладевшей им в 70-е годы мании преследования. Однако, если отбросить явно ложные соображения Гончарова о плагиате, останется одна верная мысль, существенная для художественного метода Гончарова, - о его постоянном стремлении укладывать в одну рамку всю сложность жизни.
Сам Гончаров объяснял это «интегрирование» тем обстоятельством, что ему приходилось изображать продолжительные периоды, с 40-х до 70-х годов (СП, 195). Говоря о трилогии, он замечал: «Да и периоды, уложившиеся в эти рамки, растянулись лет на тридцать, следовательно, и романы - или отражения жизни - должны были тянуться параллельно долго» (СП, 161).
Соображение это не совсем основательно: почему, собственно, периоды эти нельзя было изображать порознь, как делал тот же Тургенев? Но в том-то и дело, что Гончаров понимал эти периоды, не периодизируя их. Для него это была необозримая целина жизни, чрезвычайно медленно изменявшейся и в сущности неделимой. Он не связывал Райского непременно с порою 30-40-х годов, показывая в нем черты не «периода», а «эпохи». В отличие от Рудина, Райский не так сильно связан с философскими кружками 30-х годов. Это - образ дворянского интеллигента в его общем обличьи, характерном для всей предреформенной поры. Исторический период, узкие и точные границы которого всегда соблюдались Тургеневым, никогда не привлекал к себе особого внимания Гончарова. Автор «Обломова» предпочитал (как мы увидим далее) и самые типы свои сближать с эпохой в ее общем, мало изменяющемся содержании.
Все эти особенности творческого мировоззрения Гончарова делали особенно сложным процесс писания им произведения. «Для романа или повести нужен не только упорный, усидчивый труд, но и масса подготовительной, своего рода черновой, технической работы, как делают и живописцы, т. е. набрасывание отдельных сцен, характеров, черт, деталей, прежде нежели все это войдет в общий план...» (СП, 333). Именно так писал и сам Гончаров. Главные силы у него уходили не на писание текста, а на обдумывание. «Пишется обыкновенно быстро, до обдумывается, обрабатывается и отделывается медленно, оглядно, вдумчиво, в глубоком спокойствии», - писал Гончаров
П.А. Валуеву, убеждая его в том, что «живописец отходит беспрестанно от своей картины то назад, то в сторону, становится на разные пункты, потом оставляет кисть иногда надолго, чтобы запастись новою энергией, освежить воображение, дождаться счастливой творческой минуты. От этого и долго» (СП, 312).
Гончаров не хотел - и по характеру своего творческого метода не мог - писать быстро. «Худо ли, хорошо ли - это другой вопрос (не мне решать его!), но если в рамки моих романов укладывались продолжительные периоды, с 40-х до 70-х годов, то, спрашивается, возможно ли писание таких картин, развивавшихся и писавшихся параллельно- течению самой жизни, хотя быв год-два? Конечно, нет!» (VIII, 264). Романист, не колеблясь, отвечал отрицательно на поставленный им себе вопрос: «Не могу, не умею! То-есть, не могу и не умею ничего писать иначе, как образами, картинами, и при том большими, следовательно, писать долго, медленно и труд но» (VIII, 265).
Отметим и еще одну характерную для Гончарова особенность работы: он не был писателем-профессионалом, живущим на литературный заработок и деятельно сотрудничающим в периодической прессе. Имя Гончарова иногда не появлялось на страницах журналов по пять лет подряд. Так не бывало ни с одним русским писателем его поры. Один лишь Гоголь мог бы сравниться с Гончаровым в своей нелюбви к срочной, форсированной в своих темпах работе. Она не получалась у Гончарова даже тогда, когда он на время переставал быть беллетристом. «Напрасно просили моего сотрудничества в журналах, в качестве рецензента или публициста; пробовал - и ничего не выходило, кроме бледных статей, уступавших всякому бойкому перу привычных журнальных сотрудников» (VIII, 265).
С крайним недружелюбием Гончаров относился и к тем, кто предлагал ему задачи для романа. «Опишите такое-то событие, такую-то жизнь, возьмите тот или другой вопрос, такого-то героя или героиню!» Романист неизменно отказывался это делать. Ему было необходимо, чтобы концепция или образ выросли и созрели в нем самом в медленном, но единственно верном процессе внутреннего роста. И он с нескрываемым пренебрежением относился к той «фаланге стихотворцев, борзых, юрких, самоуверенных, иногда прекрасно владеющих выработанным красивым стихом и пишущих обо всем, о чем угодно, что потребуется, что им закажут...» (СП, 341). Не являясь писателем-профессионалом, живущим на доходы от своих изданий, Гончаров в то же время не был дилетантом, метод работы которых он сурово заклеймил образами Александра Адуева и,
особенно Райского, который, как писал Гончаров Д. Цертелеву, «только мечтает о романе, а не пишет. Неудачник, хотя и даровитый: чорт ли в нем?» (СП, 333).
Великолепно умевший изображать старую русскую жизнь, Гончаров был довольно слаб в определении перспектив завтрашнего дня. В этом заключалась, вообще говоря, одна из слабых сторон критического реализма прошлого века, особенно той его части, которая создавалась не революционными демократами. Однако ни у кого из писателей той поры недоверие к завтрашнему дню не получило столь резкого выражения, как у Гончарова.
Новая, послереформенная, необычайно быстро изменявшаяся действительность была для Гончарова непонятна. Он был художником, привыкшим иметь дело с тем, что устоялось, приняло в течение десятилетий и даже столетий законченные формы. Здесь же перед ним была жизнь, только что начинающая принимать какие-то первоначальные формы. Лев Толстой сказал об этом переходном периоде русской истории: «У нас теперь все это переворотилось и только укладывается». Ленин признавал эту характеристику чрезвычайно меткой . Гончаров ссылался на то, что «новая жизнь очень нова и молода. Она сложилась и еще не сложилась, а складывается под условием новых реформ общей русской жизни и, следовательно, ей всего каких-нибудь пятнадцать лет от роду, да и того нет, считая по началу реформ. Люди не успели повториться во стольких экземплярах одного направления, воспитания, идей, понятий, чтобы образовать группу так называемых типов, они тоже живут, так сказать, в “теории” и в “области мышления”, следовательно, около них не успела устояться известная сфера нравов, быта, которые бы представляли определенную форму, рисунок новой жизни, новых людей, за исключением разве тех ярких крайностей, которые бросаются всем в глаза» (СП, 123).
Так Гончаров писал о своем проекте предисловия к отдельному изданию «Обрыва». В позднейшей статье «Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”» он придал своим соображениям более широкую и аргументированную форму: «Искусство, серьезное и строгое, не может изображать хаоса, разложения, всех микроскопических явлений жизни; это дело низшего рода искусства: карикатуры, эпиграммы, летучей сатиры. Истинное произведение искусства может изображать только устоявшуюся жизнь в каком-нибудь образе, в физиономии, чтобы и самые люди повторились в многочисленных типах, под влиянием
тех или других начал, порядков, воспитания, чтобы явился какой-нибудь постоянный и определенный образ формы жизни и чтобы люди этой формы явились в множестве видов или экземпляров с известными правилами, привычками. А для этого нужно, конечно, время» (СП, 137).
Эти соображения заставили Гончарова отказаться от реализации некоторых его творческих планов после «Обрыва». «У меня, - писал Гончаров в другом месте, - раскидывался и четвертый период, захватывавший и современную жизнь, но я оставил этот план, потому что творчество требует спокойного наблюдения уже установившихся и успокоившихся форм жизни, а новая жизнь слишком нова, она трепещет в процессе брожения, слагается сегодня, разлагается завтра и видоизменяется не по дням, а по часам» (СП, 161).
Так убеждал других - и самого себя - Гончаров. Однако пример других писателей, творивших в о дну пору с ним, убеждает в обратном. Нечего и говорить о том, что у Гончарова мы не найдем образов, подобных Грише Добросклонову или Крамольникову: создать их могли лишь художники революционно-демократического лагеря. Но и некоторые русские писатели, весьма далекие от революционного движения, также создавали замечательные образы, запечатлевавшие в себе силу народного протеста и в какой-то мере содержавшие в себе перспективы исторического развития: таковы Катерина («Гроза») и даже Ананий («Горькая судьбина» Писемского). Для Гончарова характерно, что он остановился на Тушине, изобразив этого человека как панацею всех зол.
Все это происходило потому, что Гончаров не видел перспектив социальных изменений русской действительности. Он не мог бы, подобно Герцену, сказать: «Человек будущего в России - мужик» , и совершенно не заметил действительного «человека будущего» - русского рабочего. Крестьянская тема в литературе казалась ему не только не новаторской, но почти что исчерпанной. Лев Толстой вспоминал, «как писатель Гончаров, умный, образованный, но совершенно городской человек, эстетик, говорил мне, что из народной жизни после “Записок охотника” Тургенева писать уже нечего. Все исчерпано. Жизнь рабочего народа казалась ему так проста, что после народных рассказов Тургенева описывать там было уже нечего» . Гончаров не согласился бы и с решительными утверждениями Щедрина о литературе, «проводящей законы будущего», о том, что будущее, хотя и закрыто «для невооруженного глаза», но тем не менее совершенно настолько же реально, как и настоящее . Недоверие к будущему, неумение видеть его четко и конкретно - характерно для Гончарова.
Не понимая исторической неизбежности революции, ее величайшего прогрессивного значения, Гончаров противопоставлял ей путь реформ, дорогу «малых дел». «Смущаться перед мелким анализом дел, пугаться деталей работ, раздражительной разладицы, кажущегося разномыслия и временных, неизбежных беспорядков, словом, сомневаться в единстве одной общей всем цели и класть оружие в отчаянии перед трудностью и неудобоисполнимостью задачи - значит, конечно, итти назад. Но и отворачиваться от сложного, часто невидного, не льстящего самолюбию процесса работы, не приложить своих рук к общему делу и, бросая его неупроченным, забегать вперед, дальше, обольщаясь призраком отдаленного, никому невидимого будущего - значит тоже не итти вперед, а делать поворотный шаг, губить дело, измерять события по своим карманным часам, а не по циферблату истории» (СП, 115).
Для Гончарова «циферблатом истории» были так называемые «великие реформы», которым он пропел восторженную хвалу (см. СП, 113-115 и сл.). По этому «циферблату» следил он за будущим, не отдавая себе отчета в том, что стрелки на этом «циферблате» никак не указывают подлинного времени.
Путь решительного политического переустройства был для Гончарова неприемлем. Отсюда его стремление к обсуждению проблем общественной морали и весь его морализм, базировавшийся на признании того, что все дело в мирном и безболезненном улучшении человеческой «породы». Отсюда и то, что можно было бы назвать оптимистическим фатализмом Гончарова, - его уверенность в том, что «все к лучшему в этом лучшем из миров».
Гончаров справедливо ратовал за ту «мужественность», в которой «должна быть закалена душа, чтоб не бледнеть перед жизнью, какова бы она ни была, смотреть на нее не как на тяжкое иго, крест, а только как на долг и достойно вынести битву с нею» (III, 217). Эти слова, взятые из характеристики Штольца, не открывали, однако, никаких перспектив на то, какими путями вырабатывается этот идеальный, мужественный человек. И может быть именно поэтому идеальность Штольца оказалась такой сомнительной. Гончаров желал бы «поднять человека выше, нежели он был», «дать ему больше, нежели он имел», - но не видел почвы, на которой могли бы возрасти Ольги и Веры, не как блестящие исключения, а как правило.
На все требования, которые могла бы предъявить - и действительно предъявляла - к автору «Обрыва» передовая часть русского общества, Гончаров мог бы ответить словами Райского. На вопрос Беловодовой, что ей нужно сделать для искоренения в ее деревне нищеты, Райский отвечал: «Я не
проповедую коммунизма, кузина, будьте покойны. Я только отвечаю на ваш вопрос: “что делать”, я хочу доказать, что никто не имеет права не знать жизни. Жизнь сама тронет, коснется, пробудит от этого блаженного успения - и иногда очень грубо. Научить “что делать?” - я тоже не могу, не умею. Другие научат. Мне хотелось бы разбудить вас: вы спите, а на живете» (IV, 38).
В этих словах гончаровского героя была заключена правда, которую сам романист мог бы высказать своим читателям. Не зная «что делать?», Гончаров в то же время способствовал пробуждению русского общества от «сна». Слабый в освещении перспектив, он был силен в обнаружении того, что подготовило собою этот «сегодняшний» день его развития. «Почему, - спрашивал Гончаров в одной из своих статей, - следует отрываться от прошлого, разрывать всякое преемство с тем, откуда пришла современная жизнь, т. е. внешнее ее движение?» (СП, 121). И романист не «отрывался» от прошлого. В области истории литературы, например, он возражал против ниспровержения классиков на том основании, что они отжили свой век. «С точки зрения такой легкой критики, конечно, ничего не стоит определить одним словом характер карамзинской эпохи, например, “сентиментальным”, как будто Карамзин ничего другого, кроме сентиментальности, не дал русской цивилизации! Еще легче извлечь какого-нибудь старика Державина из его эпохи, окрасить его в современный колорит, без исторического отношения к его времени; тогда останется только его освистать и осмеять. Но эта насмешка правнуков была бы безнравственна и невежественна. Это все равно, если б нумизмат выбросил в окно старую медаль, найдя, что в ней золото низкой пробы, а чеканка и резьба лишены современной тонкости искусства. Так сделает золотых дел мастер, ремесленник, а не антикварий. Не так в старых литературах относятся критики к своим предшественникам. Не так, конечно, отнесется и к нашему прошлому и его деятелям будущий добросовестный приготовленный к своему делу историк» (СП, 130).
Эти и аналогичные им высказывания Гончарова, повидимому, были направлены против «нигилистической» критики писаревски-зайцевского типа.
Райский «рукоплескал новым откровениям и открытиям, видоизменяющим, но не ломающим жизнь, праздновал естественное, но не насильственное рождение новых ее требований, не провожая бесплодной и неблагодарной враждой отходящего порядка и отживающих начал, веря в их историческую неизбежность и неопровержимую, преемственную связь с “новой весенней зеленью”, как бы она нова и ярко-зелена ни была» (V, 3).
Общие контуры этой социологии примитивны, она проникнута духом реформизма. Однако, ошибаясь в своем отрицании всего, что «ломало жизнь», Гончаров все же смог с исключительной силой показать процесс постепенного изменения жизни, внутренней деформации «старого», постоянного обновления ее форм.
Обращаясь к целине русской действительности, Гончаров давал; углубленный анализ различным ее институтам и явлениям - крепостничеству, капиталистическому предпринимательству, воспитанию. Исследование этих важных явлений русской действительности производилось Гончаровым с далеких от революционной демократии 60-х годов позиций. Однако, не сходясь с нею в методах борьбы, Гончаров разделял некоторые ее идеалы. В частности он был неустанным, искренним и убежденным проповедником труда, как основного фактора жизни, труда деятельного, одухотворенного, направленного на развитие и преуспеяние родной земли.
Характерна резкая критика Гончаровым беспочвенного и безродного космополитизма, который свил себе гнездо в среде либеральных западников второй трети прошлого века. «Космополиты говорят или думают так: “мы не признаем узких начал национальности, патриотизма, мы признаем человечество и работаем во имя блага, а не той или другой нации!”» - иронически замечал Гончаров в «Необыкновенной истории» (С. 118).
Современному ему космополитизму Гончаров противопоставлял здоровое национальное чувство. Он считал, что общечеловеческое содержание немыслимо без национальной формы, что именно через нацию культура народа подымается до своего всемирного значения.
В «Необыкновенной истории» мы читаем: «Гражданин нации, кто бы он ни был, есть не что иное, как ее единица, солдат в рядах - и один за целую, развитую нацию отвечать и решать не может! Пусть он в теории, путем философии и других наук, делает выводы, строит доктрины, но он обязан служить злобе дня, данному моменту в текущей жизни. Если бы все народы и слились когда-нибудь в общую массу человечества, с уничтожением наций, языков, правлений и т. д., так это, конечно, после того, когда каждый из них сделает весь свой вклад в общую массу человечества: вклад своих совокупных национальных сил - ума, творчества, духа и воли! Каждая нация рождается, живет и вносит свои силы и работу в общую человеческую массу, изживает свой период и исчезает, оставив свой неизгладимый след! Чем глубже этот след, тем более народ исполнил свой долг перед человечеством! Поэтому всякий отщепенец от своего народа и своей почвы, своего дела у себя, от своей
земли и сограждан - есть преступник, даже и с космополитической точки зрения!» (НИ, 119) .
Гончаров был уверен в светлом будущем своей страны, в том, что новым поколениям «выпадет на долю достраивать здание русской жизни по какому-нибудь еще теперь невидному плану в самобытном русском, а не другом, чуждом нашей жизни, стиле» (СП, 115). Это твердое убеждение Гончарова оплодотворяло собою художественный метод замечательного русского романиста.
Легко увидеть в этой настойчивой борьбе Гончарова с космополитизмом развитие мысли Белинского о том, что «прогресс» всегда «совершается национально» .
В неизданном еще письме к Л.Н. Толстому от 2 августа1887 г. Гончаров повторил его: «Я желаю... чтобы Вы обратили внимание на маленькое предисловие, которое я им предпосылаю. Из этого предисловия Вы ясно сразу усмотрите, почему я никак не мог бы, обладая даже таким талантом, как Ваш, итти вслед за Вами...» Как явствует из следующего письма Гончарова от 27 декабря 1887 г., Толстой приглашал его «писать о народе и для народа». Оба письма хранятся в Музее Л. Толстого в Москве.
О том, что буржуазное общество выросло из крепостнического уклада, неоднократно напоминал В.И. Ленин (см. Соч., т. 19, с. 5).
В своем классическом труде «Развитие капитализма в России» В.И. Ленин показал «прогрессивную историческую работу капитализма, который разрушает старинную обособленность и замкнутость систем хозяйства (а, следовательно, и узость духовной и политической жизни)...» (Соч., т. 3, с. 45).
В рукописных вариантах образ Леонтия был наделен рядом любопытных бытовых подробностей: « - Неразвит! - усмехнувшись, печально повторил Леонтий, не делаю ничего для общества! Ах, Борис Павлович, пусть это говорит директор, да инспектор: они приехали сюда дослужиться до чина, они красят потолки, подмазывают стены, заводят новую мебель, да стригут гимназистов - пусть их, так уж, они напитаны таким духом, а ты! Я ничего не делаю. Вот уже два поколения приготовил для университета и знаю, - вдруг гордо и с уверенностью сказал он, - что из словесности, древней и новой, они не для того только готовились, чтобы выдержать экзамен, а будут деятелями, и их имена не потонут в толпе: да!.. Васютка... сын мещанина, дровосека - едет с отцом на луга, матери помогает белье возить на речку, а за пазухой книга...» (разночтения восьмой главы второй части «Обрыва»).
Ту же аитикосмополитичсскую аргументацию Гончаров развивал и в своем письме к С.А. Толстой от 11 ноября 1870 г.: «Я не с точки зрения шовинизма или квасного патриотизма боюсь за язык - и, конечно, буду рад через 10 тысяч лет говорить одним языком со всеми - и если буду писать, то иметь читателями весь земной шар. Но все же я думаю, все народы должны притти к этому общему идеалу человеческого конечного здания - через национальность, т. е. каждый народ должен положить в его закладку свои умственные и нравственные силы, свой капитал» (СП, 264).
Рыбасов А. П. Литературно-эстетические взгляды Гончарова // Гончаров И. А. Литературно-критические статьи и письма. - Л.: Гослитиздат, 1938 . - С. 5-52.
ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ВЗГЛЯДЫ ГОНЧАРОВА
Основой творческих и эстетических убеждений Гончарова являлось стремление к реализму. «Реализм , - говорит Гончаров, - есть одна из капитальных основ искусства » и состоит в том, что художник должен «вносить жизнь в искусство ».
Здесь выражено первое требование реализма вообще как подчинения художественного творчества задачам изображения действительности. Реализм Шекспира, Сервантеса, Гете, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др. состоял, по мнению автора «Лучше поздно, чем никогда», как раз в том, что они «стремились к правде, находили ее в природе, в жизни и вносили в свои произведения».
Это общее суждение Гончарова, конечно, не раскрывает еще всех особенностей его эстетического мышления, но характеризует уже его основную направленность, связь его с реалистическими традициями русской и западноевропейской литературы.
Гончаров никогда не претендовал на роль профессионального критика, хотя и осознавал свою способность к литературной критике. В «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров писал: «Может быть, у меня найдется некоторая доля критического такта - по крайней мере мне случается почти всегда верно определять значение литературных произведений других: почему же я не могу определить верно кое-что и в самом себе?» Но значение критических работ Гончарова вовсе не сводится только к моменту осознания им принципов своего творчества.
В 40-х - 60-х годах Гончаров был поглощен творческой работой и выступал в печати почти исключительно как художник. В дальнейшем он стремился свои эстетические идеи провести в общество иным путем. Своими статьями «Миллион терзаний», «Лучше поздно, чем никогда», «Заметки о личности Белинского», как равно и очерком «Литературный вечер», Гончаров активно вмешался в борьбу литературных мнений 60-х - 70-х годов. Его статьи раскрывают перед нами не только оригинальность и глубину критической мысли романиста. Они вводят нас в круг основных литературно-политических вопросов и проблем 40-х - 70-х годов прошлого века, главным образом проблем реализма.
В развитии общественных и эстетических убеждений Гончарова чрезвычайно глубокий отпечаток оставила полоса русской жизни 40-х - 50-х годов, когда отрицание крепостничества и «всероссийского застоя», критика его были одной, общей темой, выросшей из недр самой жизни и роднившей между собою многих русских писателей. В этот период, как и в последующие годы, мы видим Гончарова в западническом лагере. Гончаров понимал и признавал прогрессивность западноевропейской культуры и ее огромное значение для быстро идущей в своем развитии России. Осознавая себя русским человеком и не скрывая своей настоящей любви к родине, Гончаров всегда выступал против ложнонационального и ложнонародного в лице славянофилов, отрицательно относился к их программе. Писатель-реалист придерживался широкого взгляда на наследие прошлых культур, понимая важность освоения их богатств, видя преемственность в культуре. Он считал, что пушкинско-гоголевская школа в русской литературе могла вырасти только на основе всего предшествовавшего опыта литературы XVIII века и первых десятилетий XIX века. Он видел историческую закономерность и в появлении русского классицизма. Говоря, что можно и нужно «кое-что оставить в пользу последнего», он одновременно был против «подавляющего натиска классицизма», против того, чтобы рутина подменяла собою живые традиции русской и западноевропейской литературы.
Взгляды Гончарова на литературу и искусство, отличаясь известной последовательностью, не лишены вместе с тем и противоречий. Но что важнее всего, - зачастую эстетические суждения, как и творчество его, оказываются в целом шире и глубже его политических убеждений, хотя и не могли не испытывать на себе их влияния. Это отчасти можно объяснить, как писал еще до революции А. М. Горький в статье «Разрушение личности», тем фактом, что «В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление - понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле. Как человек, как личность, писатель русский стоял доселе освещенный ярким светом беззаветной и страстной любви к великому делу жизни, литературе...»
В лице Гончарова русская литература, так богатая талантами, выдвинула одного из тех мастеров художественного слова, которые до конца, на всю жизнь отдали себя литературе, которые видели в этом свой общественный и национальный долг, не мысля своего творчества вне связи с жизнью. Гончаров был человеком глубоких творческих убеждений, непреклонной веры в силу и значение искусства, литературы.
Следует положительно оценить чрезвычайно простую, но плодотворную мысль писателя о том, что «художественная верность изображаемой действительности, т. е. «правда», есть основной закон искусства - и этой эстетики не переделает никто. Имея за себя «правду», истинный художник всегда служит целям жизни , более близко или отдаленно » (из неизданного предисловия к «Обрыву»).
Именно это стремление подчинить талант художника изображению реальной жизни, стремление служить «целям жизни» лежит в основе творческих достижений Гончарова и определяет положительные моменты в его литературно-эстетических высказываниях.
При всей широте художественных проблем, ставившихся Гончаровым, при всей ценности его мнений, основанных прежде всего на собственном творческом опыте, ни идейная позиция Гончарова, ни истолкование им проблем реализма не могут безоговорочно приниматься нами. Умеренно-либеральные убеждения он сочетал в себе с антидемократическими и легитимистскими настроениями. Все это в значительной мере ограничивало его творческие горизонты и связывало его критические и эстетические суждения. Взгляды Гончарова могут быть правильно поняты только на фоне литературной полемики, литературной борьбы 60-х - 70-х годов, т. е. когда как раз и писались его статьи и письма, публикуемые в данном сборнике. Гончаров никогда не был певцом ни общественного, ни художественного индиферентизма. Несмотря на то, что его политические убеждения не являлись передовыми ни в 40-х, ни тем более в 60-х годах, он все же не остался в стороне от гуманных идей своего времени и по-своему служил делу художественного просвещения народа. Как мастер русского реалистического романа, изображавшего дореформенную жизнь, он обогатил нашу классическую литературу такими произведениями, как «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Гончаров, как и Тургенев, много сделал для выработки русского литературного языка. Созданные им реалистические образы и превосходный художественный язык - «язык чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся» (Белинский) - по достоинству ценятся нашей современностью.
Столетие со дня рождения Гончарова в 1912 году прошло под знаком попыток реакционной критики выставить Гончарова сторонником реакции, выхолостить, затушевать реалистическую сущность его творчества.
125-летие со дня- рождения творца «Обломова» было широко отмечено в 1937 году в нашей стране. Гончаров был и остается в классическом наследии прошлого как «великий русский реалист» (ЦО «Правда» от 17/VI 1937 г.).
Суждения Гончарова по вопросам литературы и искусства относятся преимущественно к трем последним десятилетиям его жизни, т. е. к 60-м, 70-м и 80-м годам. Для писателя это уже было время итогов, время окончательного завершения своей общественной и творческой эволюции. Но во взгляды этого времени вносилось многое из того, что было выработано им еще на прежних этапах литературной деятельности, особенно в пору создания «Обыкновенной истории» и «Обломова». Отступления от принципов «художественной правды», «объективности» в «Обрыве», при изображении «новых людей» (Волохов), обусловлены были изменениями в политических убеждениях писателя в обстановке обострившейся классовой борьбы в 60-х годах.
Никогда не порывая как художник своей связи с действительностью, Гончаров в 40-х - 50-х годах был с нею связан теснее, живее в том смысле, что своими произведениями, особенно «Обломовым», оказал неоценимую услугу русскому обществу, с глубокой художественной проницательностью показав причину отсталости русской действительности, заклеймив словом «обломовщина» косность и лень крепостников.
«Обломов» появился в канун реформ 60-х годов, в момент бурного клокотания общественной жизни, обострившейся борьбы с крепостниками.
Добролюбов очень горячо отозвался об «Обломове», подчеркнув, что роман, несмотря на свои недостатки, имеет большое общественное значение, значительно большее, чем все так называемые обличительные повести, которые не выходили за пределы критики отдельных, частных сторон крепостнического строя и крепостнических нравов.
Образ Обломова, в силу своих типических достоинств, позволил революционно-демократической критике в лице Добролюбова сделать широкое обобщение и вывести черты, присущие характеру Обломова, за пределы типа русского помещика. Но, говоря, что обломовщина «служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни», Добролюбов вовсе не имел в виду сказать, что русский народ является «нацией Обломовых», что обломовщина - будто бы национальная черта русского характера, как клеветали на наш народ подлые враги его, ныне разоблаченные славной советской разведкой и уничтоженные по воле народа.
Победы всемирно-исторического значения, которых добились русский пролетариат и крестьянство, совершив Октябрьскую революцию, показывают действительные черты русского народа, его гигантскую творческую энергию, его революционный размах, его деловитость.
Добролюбов правильно увидел в романе «Обломов» удар по русскому крепостничеству, по инертности, по лицемерию и лжи либералов, по их мнимой солидарности с народом, борющимся за свободу.
В литературе 40-х годов «Обыкновенная история» также сыграла несомненно положительную, прогрессивную роль. Белинский, например, прочитав (еще в рукописи) «Обыкновенную историю», с особой поспешностью отозвался на нее в печати, назвав роман «одним из замечательных произведений русской литературы», расценив его как «страшный удар романтизму, мечтательности, сантиментальности, провинциализму» - этим моральным и эстетическим последствиям крепостнического строя жизни.
Правда, Белинский с присущей ему прозорливостью заметил между похвалами, что роману «недостает нечто», а автора его назвал «филистером».
Тут сказалась разность убеждений не столько литературного, сколько идейного порядка. Не следует забывать то, что при всех симпатиях Гончарова к Белинскому и даже значительного влияния на Гончарова эстетических идеалов последнего, они были и оставались всегда людьми различных общественных убеждений. Белинский видел и понимал ограниченность общественной позиции Гончарова. Но на фоне литературы 40-х годов роман Гончарова был явлением настоящего художественного и идейного новаторства, наглядно показавшим реалистическую сущность, характер эстетической позиции писателя.
В «Обыкновенной истории» Гончаров подверг убийственной критике реакционно-романтические предрассудки и традиции в литературе. В отличие от дворянской реакционной литературы, оторванной от жизни, погрязшей в безжизненной идеализации, в идеалистической романтике и литературщине, «Обыкновенная история» способствовала развитию реального мышления в обществе, пробуждению в нем внимания к действительности.
Белинский как теоретик русской «натуральной школы», т. е. направления, ярче всего представленного в творчестве Гоголя и, по определению самого же критика, ориентировавшего художника на критическое изображение «разных сторон общественной жизни», не мог не увидеть в романе: Гончарова победы реализма.
Белинский видел, что Гончаров объективно осуждает крепостничество, патриархально-феодальные отношения и нравы, выступает реалистом и гуманистом, трезво смотрит на объективный ход жизни, понимает неизбежность и прогрессивность развития капитализма, хотя в целом и не выходит за пределы легальной критики поместного дворянства. Но и этого было достаточно Белинскому для того, чтобы признать в Гончарове художника, близкого «натуральной школе». Белинский умел собирать все мало-мальски прогрессивные литературные силы, умел создавать единый антикрепостнический фронт литературы в 40-х годах.
В 40-х годах сложилась весьма своеобразная обстановка. Люди из различных общественных классов и групп были охвачены общими гуманными стремлениями, стремлениями устранить крепостное право и его тяжелые последствия в отношении человека. В предисловия к роману «Обрыв» Гончаров не просто констатирует эти исторические факты, а выражает свое личное сочувствие гуманным стремлениям передовых людей 40-х годов. Правда, в отличие от ряда русских писателей, в частности в отличие от Тургенева, он не изображал (если не считать слуг и дворни) жизни и быта крепостного крестьянства, будучи вместе с тем свободным от какого-либо сантиментализма в этом вопросе. Но писатель не был чужд своему народу. В своих «Воспоминаниях» Гончаров писал: «Мне нередко делали и доселе делают нечто в роде упрека или вопроса, зачем я, выводя в своих сочинениях лиц из всех сословий, не стараюсь изображать их в художественных типах, или не вникаю в их быт, экономические условия и т. п. Можно вывести из этого заключение, может быть, и выводят, что я умышленно устраняюсь от «народа», не люблю, т. е. «не жалею» его, не сочувствую его судьбе, его трудам, нуждам, горестям, словом - не болею за него. Это-де брезгливость, барство, эпикуреизм, любовь к комфорту: этим некоторые пробовали объяснить мое мнимое равнодушие к народу». И он вполне был искренен, когда отвечал, что не знает быта и нравов крестьянства, сельской жизни («не описываю и не изображаю, чего не знаю»). В конце концов, слуги, дворовые люди, которых не без сочувствия изображал романист, - тоже ведь «народ». И мы не можем пройти мимо следующего признания Гончарова: «то с грустью, то с радостью, смотря по обстоятельствам, наблюдаю благоприятный или неблагоприятный ход народной жизни».
Прогрессивные и гуманные стремления продиктовали романисту «Обыкновенную историю» и «Обломова». Но и много после - в упомянутой уже выше статье об «Обрыве», относящейся к концу 60-х годов, - он не может «умолчать» о том, что «светлому кругу» деятелей 30-40-х гг. (Белинскому, Грановскому и пр.) приходилось «рассеивать мрак не одного эстетического неведения», но «ратовать против многообразного зла еще в принципах, в роде, например, того, что помещики не имеют права грабить и засекать крестьян, родители считать детей, а начальники подчиненных своей собственностью», «взывать к первым, вопиющим принципам человечности, напоминать о правах личности...»
Это же составляло и единую тему для значительной группы передовых писателей того времени. Вследствие недостаточной развитости общественных отношений, неясности политической диференциации общественных интересов создавалось впечатление единства прогрессивно мыслящих людей того времени. Некоторые основания для такого единства несомненно были. И Чернышевский не случайно в «Очерках гоголевского периода» подчеркивал прошлое единство «лучших людей молодого поколения» 40-х годов и называл их по имени. По свидетельству Гончарова, московский и петербургский круги прогрессивных умов и талантов группировались тогда около фигур Чаадаева, Надеждина, Станкевича, Белинского, Грановского и др.
Известно, какую огромную роль тогда играла в общественной жизни литература, будучи единственной отдушиной, из которой до народа доносились не только стоны, но и протесты, не только сочувствия, но и призывы к борьбе с крепостным бесправием.
Щедрин в анонимной статье «Уличная философия» («Отеч. зап.» № 6, 1869 г.), писал, что литература 40-х - 50-х годов была «представительницей и распространительницей гуманных стремлений в русском обществе», что она впоследствии взяла на себя «почин» в деле освобождения крестьян. Об этом собственно говорил в «Необыкновенной истории» и Гончаров: «Я жил в тесном кругу, обращался часто с литераторами и с одними ими, и сам принадлежал к их числу, то, конечно, мне лучше и ближе видно было то, что совершалось в литературе: как мысли о свободе проводились здесь (т. е. в Петербурге.- А. Р. ) и в Москве Белинским, Герценом, Грановским и всеми литературными силами совокупно, проникали, через журналы в общество, в массу, как расходились и развивались эти добрые семена и издалека приготовляли почву для реформы, т. е. как литература с своей стороны облегчила для власти совершение первой великой реформы: освобождение крестьян, приготовив умы, пристыдив крепостников , распространив понятия о правах человека и т. п.» (стр. 126; подчеркнуто мною. - А. Р. ).
Гончаров искренно идеализирует эту заслугу литературы, эту гуманность ее.
Щедрин, наоборот, имея в виду либеральную сторону проповеди этой гуманности, подчеркивает, что гуманность эта «очень близко граничила с туманностью», поскольку на поверку (в 60-х годах) оказалась отвлеченной и не предназначавшейся к тому, чтобы общество практически и до конца осуществило ее. Правда, Щедрин признает, что это тогда было лучшее, что могло быть.
Романтика либеральных исканий в 40-х годах, по сравнению с тенденцией примирения с действительностью, несомненно играла до известной степени прогрессивную роль. Но «идея добра» у людей 40-х годов не стала, по меткому выражению Щедрина, «воинствующей». Либерализм 40-х - 50-х годов готовился как бы сыграть роль Гамлета, а сыграл только Лаэрта.
Среди писателей «натуральной школы» в русской литературе в этот период 1 мы видим представителей различных общественных тенденций. «Натуральную школу» можно поэтому рассматривать как литературное объединение прогрессивно мыслящих людей 40-х - 50-х годов. Это обстоятельство придает понятию «натуральная школа» известную условность.
Революционно-демократические сторонники «натуральной школы» (Белинский, Добролюбов, Чернышевский), говоря о реализме ее, имели в виду как минимум гуманное отрицание крепостничества в творчестве либерально настроенных писателей, Максимум реализма «натуральной школы» состоял, в последовательном представительстве революционных интересов крестьянства, в углублении и развитии гоголевского «отрицания». Подлинным и самым выдающимся продолжателем лучших традиций гоголевской «натуральной школы» в 60-х - 70-х годах был Щедрин.
В 60-х годах в демократическом лагере естественно встал вопрос о пересмотре отношения к «людям 40-х годов», их идеалам и стремлениям. Стали звать их - в том числе и Гончарова за «Обрыв» - на «суд ближайшего потомства», чтобы пересмотреть их заслуги перед обществом и литературой.
Несомненно, что одной из причин, заставивших Гончарова в 60-х - 70-х годах взяться за критическое перо, за написание специального предисловия к отдельному изданию романа «Обрыв» в 1869 г., является характер сложившихся к тому времени взаимоотношений между писателем и обществом. После жестокой критики «Обрыва» со стороны демократически настроенной части общества писатель, очутившийся в положении «ответчика», почувствовал необходимость объясниться в печати. Однако Гончаров, решившись сперва на такое выступление, скоро уклонился от него, боясь дальнейшего обострения дела. Знакомясь теперь с этой статьей, мы видим, что она предвещала мало хорошего для ее автора, так как хотя и содержала ряд положительных и верных выводов, но и ставила точки над «и», разжигая полемику.
В своей статье Гончаров стремился объяснить «некоторые цели своей литературной задачи», но главное - «отклонить упрек в враждебном будто бы отношении к «новому поколению». Однако уже начало этой статьи позволяло видеть ее антидемократическую заостренность и полемичность. Чисто полемическим приемом, например, является довод о том, что трибуна критики в прежнем значении этого понятия давно опустела, и не только в силу того, что нет замечательных критических талантов, но главным образом потому, что в современном развитом обществе критика перестает быть выражением широкого общественного мнения, а выражает лишь мнение «того или другого кружка» или «того или другого личного пера». Полемичен по существу тезис о праве художника «относиться с объективным отрицанием» почти ко всем основным лицам в романе.
Наибольшую остроту статья приобретает в той части, где Гончаров определяет свое понимание «нового поколения». По его мнению, Волохов не был и не может быть представителем подлинно нового поколения. За что же нападают на него, за что же обвиняют его «в недоброжелательности к новому поколению»?
Характеризуя типы Волохова и Райского, Гончаров сближает их в основе, в причинах их происхождения («оба - порождения одного и того же зла: праздности, барства, жизни без содержания и без цели», они «не могут представлять собственно ни нового, ни старого поколения, а только его некоторую фракцию», являясь «пассивным протестом» и т. д. и т. п.).
Истинно новым поколением, по мнению Гончарова, является то, которое «всецело посвящает себя общественному служению» и которое «вносит много трезвости в жизнь и в самое дело, признав основой жизни необходимость труда», но идет «уже открытым путем разумного развития и упрочения новых форм русской жизни», т. е. идет по пути реформ.
Ясно, что такое определение нового поколения начисто отрицает тот факт, что действительно новыми людьми эпохи являлись представители революционной демократии, люди из «Что делать?», «Алферьева» и «Пролога» Чернышевского.
Таким образом, «Обрыв», точнее его последние главы, был внутренне противопоставлен «Что делать?» Чернышевского. В «Обрыве» также был поставлен вопрос что делать и был дан определенный ответ (образ Тушина).
Но, как бы то ни было, Гончаров имел известное основание причислять себя к «натуральной школе» в русской литературе». На определенном этапе исторического развития его связывал с ней характер реализма «Обыкновенной истории» и «Обломова». Гончаров был сам человеком 40-х годов и в какой-то степени остался верен идеалам этой поры. Так, например, в одном из своих писем в Цертелеву он признается: «Я ставил нередко в кожу Райского своих приятелей из кружков 40-х, 50-х и 60-х годов, - и как многие подходили к этому типу, нередко и сам влезал в него и чувствовал себя в нем как впору сшитом халате». Но он, безусловно, поднялся над дворянскими гуманистами эпохи «торжества фразы», дворянскими либералами 40-х годов. Он критиковал все виды дворянской романтики (в Адуеве, Обломове, Райском). Тут Гончаров был заинтересован и мог говорить много правды. Именно эти моменты, эти стороны его творчества и эстетических взглядов особенно богаты объективностью и реализмом. Именно здесь он достигал самой высокой типичности своих образов и самых положительных теоретических определений.
Через критику всех видов дворянской романтики Гончаров косвенно произносил свой приговор старой жизни, крепостничеству. Даже в «Обрыве» художник, несмотря на элементы идеализации помещичьей патриархальности, нравственных достоинств дворянства и крайне субъективисткого, отрицательного изображения революционной демократии в лице Волохова («Хуже Волоховых быть ничего не могло...»), - несмотря на все это, оставался во многом верен себе как автор «Обломова», продолжая линию своего «критического реализма» в изображении героя своего воображения - Райского. Вот почему неверно из-за образа Волохова не видеть реалистических моментов в романе «Обрыв», безоговорочно зачислять его по разряду «антинигилистических», «охранительных» романов, вроде «Взбаламученного моря» Писемского, «Некуда» Лескова и т. д.
Ведь не утверждать же, что «Обрыв» - это всего лишь тема о нигилизме. Нет, конечно. Это в то же время и роман о гуманных прогрессивных стремлениях русской женщины (Вера), и типичное изображение существенных сторон дореформенного быта, и критика дворянской романтики, бесплодного либерализма - в лице Райского.
Характеристика литературной позиции Гончарова не исчерпывается указанием на его отрицательное отношение к революционной демократии.
В своих высказываниях литературного и общественного характера, как более ранних, так и поздних, Гончаров настойчиво подчеркивает свое отрицательное отношение к крепостничеству, казенщине, войне, некультурности...
Гончаров не был единомышленником Белинского. Но литературное общение с Белинским и кружком передовых деятелей и литераторов 40-х годов не осталось бесследным в формировании общественных и эстетических взглядов Гончарова. Он несомненно обязан Белинскому многими своими понятиями и творческими устремлениями.
В «Необыкновенной истории» (1875-1878 гг.), являющейся исповедью писателя, Гончаров посвящает немало строк истории своих взаимоотношений с кружком Белинского. «Я литературно сливался с кружком, - говорит Гончаров, - но во многом, и именно в некоторых крайностях отрицания, не сходился и не мог сойтись с членами его. Разность в религиозных убеждениях и некоторых других понятиях и взглядах мешала мне сблизиться с ними вполне. Более всего я во многом симпатизировал с Белинским: прежде всего с его здоровыми критическими началами и взглядами на литературу, с его сочувствием к художественным произведениям, наконец с честностью и строгостью его характера».
Но живое движение, развитие критической мысли Белинского, непонятная для Гончарова «скорость» изменений взглядов и симпатий критика сильно озадачивали Гончарова, и он не сближался «сердечно» со всем кружком, так как для этого, по убеждению писателя, «нужно было бы измениться вполне, отдать многое, все», чего он не мог отдать. Вот почему, «развившись много в эстетическом отношении в этом кругу», он «остался во всем прочем верен прежним основам своего воспитания». Гончаров, между прочим, понимал всю условность «единства» людей 40-х годов, был убежден, что «одна литература бессильна связать людей искренно между собой», что она скорее «способна разделять» их друг с другом, так как в кружке в конце концов «все почти смотрели врознь». Несомненно, что в этих наблюдениях писателя заключается доля правды.
Характеризуя свои взгляды 30-х - 40-х годов, автор «Необыкновенной истории» пишет, что он, посещая кружок Белинского, где «втихомолку», но говорили «обо всем», говорили и «либерально», «бранили крутые меры», - «разделял во многом образ мыслей относительно, например, свободы крестьян, лучших мер к просвещению общества и народа, о вреде всякого рода стеснений и ограничений для развития», не поддерживал «произвола крутых мер», но вместе с тем «не давал веры материализму». Не увлекаясь «крайними идеями прогресса», т. е. идеями социализма, Гончаров, однако, верил в прогресс, как мирную эволюцию, приветствовал, подобно Райскому из «Обрыва», все, что являлось «видоизменяющим», но не «ломающим» жизнь, признавал только «естественное», а не «насильственное» рождение нового.
Идеал общественного развития Гончаров усматривал в преобразовании всего «путем реформ», в сотрудничестве всех классов, в гармонии их общественных интересов.
Эти надежды на общественную гармонию, на «гармоническое целое» легли в основу важнейших эстетических идеалов и понятий Гончарова. Эти надежды причинили романисту в конце жизни тяжелые разочарования. Помимо всего прочего, они заключали в себе тенденции политического консерватизма.
Идея «гармонического целого» являлась следствием стремления писателя совместить прогресс с сохранением существующего политического строя. Понятия Гончарова о государственной власти оставались на протяжении всей его жизни устойчивыми и неизменными. В данном случае о нем можно сказать то, что сказал Ленин о Тургеневе: его «тянуло к умеренной конституции», ему тоже претил «мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского».
И если Щедрин эпоху реформ называл эпохой конфуза, то Гончаров «рукоплескал» реформам, видя в Александре II пример «современного героя».
Однако в 60-х годах Гончаров, как и ряд писателей 40-х - 50-х годов, не примкнувших ни к лагерю реакции, ни к лагерю демократии, хотя и сдал значительно в своих критических настроениях, все же не «до конца» мирился с крепостническими пережитками, отделяя борьбу с ними от проблемы политической власти.
Позволяет ли этот факт зачислять Гончарова в лагерь «охранителей» и реакционеров?
Тут нужно учитывать указание Ленина на то, что некоторые «тогдашние демократы» осуждали «полукрепостнический либерализм», не сумев понять и объяснить его необходимость при развитии капитализма, не умели понять прогрессивность этого уклада сравнительно со старым, крепостническим, ограничиваясь «фырканьем » на эти порядки «свободы» и «гуманности».
Литературно-критические представления о Гончарове отличались всегда большим разнобоем.
В старом литературоведении для одних Гончаров был просто «загадочен». Другим казалось, что он «не поддается доныне критическому пониманию». Третьи утверждали, что Гончаров - это «идеолог натурального хозяйства и крепостного труда», «alter ego», двойник Обломова («Гончаров-Обломов»). Говорилось еще, что будто сам Гончаров и все его образы - «вариации одного и того же образа патриархального буржуа» или что он «целиком патриархален», «несомненный консерватор». И, наоборот, ссылаясь на либеральные взгляды писателя, в Гончарове во что бы то ни стало хотели видеть художественного идеолога крупной культурной буржуазии.
Но Гончарова, как всякого большого художника, говоря словами Белинского, «уловить... в какое-нибудь коротенькое определение трудновато», хотя это вовсе не означает, что вообще нельзя достигнуть определенности в идейной и эстетической характеристике взглядов писателя.
Сам Гончаров признавался, что его позиция не была достаточно ясна многим из его современников и что многие озадаченно опрашивали: «Либерал? Демократ? Консерватор?» Он сам не раз осознавал, что «впадал в противоречия», говорил «против кого или чего-нибудь и за» тут же, рядом. Небезынтересно следующее объяснение этого факта самим писателем: «Любил и отталкивал: понятно! Анализ задевал одно, фантазия красила это в другой цвет, а сердце не теряло своих прав» («Необыкновенная история»).
Известная трудность в объяснении этих вопросов состоит не в том, что в своих общественных и литературно-эстетических взглядах Гончаров проделал определенную эволюцию.
Эта трудность заключена в понимании того, как и какие противоречия были заложены в мировоззрении, общественной деятельности, творчестве, жизни и эстетическом мышлении писателя - словом, в его отношении к действительности.
Гончаров был выходцем из дореформенной буржуазии (купечества), но только в детстве он испытал на себе это материальное преимущество. Всю остальную жизнь он вынужден был служить чиновником и трудиться как писатель-профессионал.
Весьма укоренившееся в прошлом представление о Гончарове как о самоудовлетворенном чиновнике-бюрократе, «обломовце», совершенно неверно. В письмах нашего знаменитого романиста, как опубликованных, так и еще неизданных, можно найти многочисленные заявления о том, что ему ненавистны казенщина и бюрократизм, что он страдает как художник от условий своей жизни и деятельности, будучи материально подчинен необходимости служить.
В Петербурге Гончаров был писателем и чиновником, но, вырываясь за границу, - исключительно литератором.
Все свои образы, типы, творческую фантазию Гончаров черпал из русской жизни и был глубоко русским писателем, но большую часть своей творческой работы мог выполнять только за границей. «Там порядки лучше, - говорил он Н. И. Барсову, - спокойнее и свободнее живется» («Ист. вестник» № 12, 1891 г.).
В годы молодости мировоззрение Гончарова характеризуется бодростью, ему чужды мотивы дворянского пессимизма. «Я свободный гражданин мира» - восклицал он («На родине»).
В 50-х годах Гончаров стал уже ощущать неудовлетворенность русской действительностью. В письме к Языковым от 1852 г. он одним из фактов, «которые мешают свободно дышать», называет «недостаток разумной деятельности и сознание бесполезно гниющих сил и способностей».
Отдавая предпочтение «легальным возможностям», романист частично понимал причину русской отсталости:
«Но ведь (как я показал в Обломовке) обломовщина - как эта, так и всякая другая - не вся происходит по нашей собственной вине, а от многих, от нас самих «независящих» причин! Она окружила нас, как воздух, и мешала (и до сих пор мешает отчасти) итти твердо по пути своего назначения, как бы сделал я в Англии, во Франции и Германии» («Необыкновенная история»).
Но до конца жизни его все же не покидала надежда, что «возродится новая, светлая, очищенная жизнь, где будет больше правды и порядка, чем было в старой» («Необыкновенная история», стр. 149). Гончаров верил в то, что в ликвидации крепостного права и его пережитков, а следовательно в прогрессе, заинтересованы все классы русского общества.
С одной стороны, он видел и понимал, что буржуазное развитие страны - очевидный факт, усматривал в этом прогресс и оптимистически оценивал его будущее, но, с другой, не отказывая дворянству в праве на историческую роль, одновременно представлял себе опасность и невозможность сохранения патриархальных, крепостнических отношений в поместном хозяйстве.
Любовь к нравственным и эстетическим достижениям дворянской культуры заставляла художника относиться со снисходительностью и теплотой к гибнущим и страдающим представителям ее. Это очарование духовной культурой дворянства объясняется тем, что в России, как и в Пруссии, говоря словами Ленина, помещик никогда не выпускал из своих рук гегемонии и «воспитывал» буржуазные слои общества по образу и подобию своему.
Это сложное переплетение социальных явлений и симпатий отразилось на эстетических взглядах нашего писателя.
Эстетические убеждения Гончарова начали складываться и заметно определились еще задолго до появления в печати «Обыкновенной истории». И хотя писатель прошел сложный путь развития, в его творчестве и в эстетических взглядах всегда сохранялась одна чрезвычайно важная черта - пристальное внимание ко всем фактам реализма в искусстве. Этим характеризуются как ранние его высказывания, так и его «Критические заметки» («Лучше поздно, чем никогда»), которые явились в 70-х годах своеобразным литературным манифестом писателя.
Творческие интересы и способности Гончаров выработал в себе в результате многолетней систематической упорной самообразовательной работы и солидного академического образования.
Литературная осведомленность Гончарова поражает своей обширностью. Еще задолго до вступления в университет будущий писатель был хорошо знаком с русской и западноевропейской литературой, «знал порядочно» несколько иностранных языков. Первыми сознательно прочитанными книгами были произведения русских классиков XVIII века - Державина, Фонвизина, Ломоносова и др., которых он «и переписывал, и учил наизусть». Знакомство с ними определило дальнейший интерес к литературе.
Глубокий след в формировании эстетических воззрений и вкусов в общем эстетическом развитии Гончарова оставил университет (1831-1834 гг.). Известное представление об этом периоде дает первая автобиография Гончарова (1858 г.).
Знакомство с античностью и эпохой Возрождения (Гомер, Вергилий, Тацит, Дант, Сервантес, Шекспир и т. д.) и чтение образцов английской и немецкой литератур сообщили его понятиям «надлежащее направление». Гончаров «скоро отрезвился от влияния французской литературы» (см. вторую автобиографию 1868 г.). В университете первоначальное увлечение ею сменилось длительным и серьезным интересом к английской литературе.
«Долго пленял Гончарова Тасс в своем Иерусалиме, потом он перешел через ряд многих, между прочим Клопштока, Оссиана, с критическим повторением наших эпиков, к новейшей эпопее Вальтера Скотта и изучил ее пристально» (автобиография 1858 г.). Интерес к поэзии вообще был постоянен.
Но особенно сильный след в художественном развитии Гончарова оставил Пушкин. К Пушкину у него было и на всю жизнь осталось действительное преклонение. Оно началось еще с университетской поры, «в самую свежую и блистательную пору силы и развития великого поэта». Гончаров прямо говорил: «Его гению я и все тогдашние юноши, увлекшиеся поэзией, обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование» («Воспоминания»). Знакомство с Пушкиным началось с «Евгения Онегина», который появлялся в печати тогда отдельными главами, с «Полтавы» и др. Несколько раньше гуманнейшим из писателей, «первым, прямым учителем в развитии гуманитета, вообще в нравственной сфере», для Гончарова был Карамзин, хотя, по мнению его, он и «не был художник». Но вот явился Пушкин. По восторженному отзыву писателя, из поэзии Пушкина хлынули на него потоки света, поэтической правды и жизни, притом совершенной и понятной, с изумительным блеском, в чарующих звуках.
В Пушкине найдена была «школа изящества, вкуса».
Творчество Пушкина оказало огромное и своеобразное влияние на весь строй эстетических чувств и понятий Гончарова, и в своем поклонении ему он остался верен навсегда, «несмотря на позднейшее, тесное знакомство с корифеями французской, немецкой и английской литератур», как говорится в одной из его автобиографий.
После университета, приехав в 1835 г. в Петербург, Гончаров все свободное от службы время посвящал литературе. Так продолжалось до 50-х годов. Именно в этот период в произведениях Пушкина было «все изучено», «всякая строка была прочувствована, продумана». В те же годы этого страстного увлечения поэзией Пушкина Гончаров много переводил из Шиллера, Гете, Винкельмана и Других.
Существенную роль в эстетическом развитии Гончарова сыграло также его близкое знакомство с семейством живописца Н. А. Майкова. Гончаров участвовал (1835-1838 гг.) в домашних рукописных альманахах Майковых («Подснежник», «Лунные ночи»), писал полуромантические стихи и повести («Лихая болесть», «Счастливая ошибка»).
Уже тогда в этих начальных творческих опытах наметились те черты, которыми эстетические идеалы Гончарова резко отличались от традиций аристократического «чистого искусства», строго соблюдавшихся в салоне Майковых. В повести «Счастливая ошибка» угадывались уже некоторые моменты «Обыкновенной истории», а в «Лихой болести» - многие черты «Обломова».
Выход же «Обыкновенной истории», как уже говорилось выше, Белинский расценил как огромную победу реализма.
«Фрегат Паллада» явился единственным в своем роде образцом русского реалистического очеркизма. Автор совершенно трезво относится к действительности, чужд увлечению экзотикой за счет реальности, полемизирует с традиционным романтическим отношением к иноземной культуре, быту, природе. Будучи реалистом, он достигает необычайно высокой поэтичности своих описаний, хотя от него не ускользает тот факт, что жизнь и деятельность людей все более и более подходят под «какой-то прозаический уровень». Пристально всматриваясь в окружающий его мир, в калейдоскоп стран, явлений, людей, всюду «отыскивая жизнь», Гончаров был захвачен европейской действительностью, познавая ее через «параллель между чужим и своим». Воображение русского человека было возбуждено, «подавлено богатством» буржуазного общества. И казалось, что перед ним меркли все «шехерезады» детских сказок.
Окружавший художника мир по-новому организовал его эмоции и страсти.
В «Фрегат Палладе» Гончаров поставил перед собой чрезвычайно существенный вопрос: «Где искать поэзии?» - и ответил на него изображением действительности Запада, как она есть, с ее прогрессом и с ее противоречиями.
«Чудеса, - писал О. Конт, - создаваемые человеком, его победы над природой, чудеса его общественности будут отныне представлять для истинного эстетического гения изобильный источник новых и сильных наслаждений».
Эту идею нового позитивного источника поэзии Гончаров выразил в «Фрегат Палладе».
Литературно-эстетическую позицию Гончарова немыслимо правильно понять, если игнорировать вопрос о философской базе его воззрений.
«Люди сороковых годов», которых критиковал, но к которым в идейном смысле в известной мере и принадлежал Гончаров, были по преимуществу поклонниками гегелевской философии, основывались на философии Гегеля, по-своему истолковывая ее.
Соответственно этому в творчестве и эстетических воззрениях «людей сороковых годов» наметились различные эстетические линии, которые, между прочим, чрезвычайно ярко представлены в творчестве Тургенева и Гончарова.
И если философской базой русского либерализма вообще является в правом духе истолкованная философия Гегеля, то Гончаров не остался в стороне и от известного влияния позитивизма.
Философской базой эстетических воззрений Гончарова является своеобразно осмысленное учение Гегеля. Он осмыслил его не с диалектических позиций, а скорее с позитивистских, примитивно материалистических позицй.
В силу этого в эстетических взглядах нашего писателя не трудно заметить сочетание позитивно-материалистических тенденций с элементами гегелевской эстетики, освобожденной не только от «метафизики прекрасного», но и от диалектики.
Необходимо, однако, отметить, что идеи позитивизма Гончаров воспринимал в весьма измененном виде. Гончаров, как и В. Майков, не разделял крайностей западноевропейского позитивизма, который был возведен в принцип эстетикой французского натурализма. Автор «Обыкновенной истории» и «Обломова» осознавал позитивизм как «систему здравого смысла», как идею сочетания «прогресса» и «порядка», отрицание революционной доктрины, стремясь, не выходя из рамок существующего строя, развивать «положительную» деятельность.
Эти черты мировоззрения Гончарова более сильны были в 40-х - 50-х годах. В «Обрыве», в котором, по словам самого писателя, «подрывается в лице Волохова радикализм», уже наблюдается усиление субъективистских, идеалистических тенденций.
Но не этим главным образом привлекает и должен привлекать к себе внимание Гончаров в своих творческих стремлениях и эстетических взглядах. В высказываниях писателя нас особенно должно интересовать его обращение к проблемам реализма в искусстве, что позволит раскрыть основное содержание его эстетической системы, его философии искусства.
Как успех позитивно-реалистического мышления следует оценить выводы Гончарова в малоизвестной рецензии на картину Крамского «Христос в пустыне». По мнению Гончарова, все, что невещественно, не поддается пластическому изображению в живописи. Писатель в основном правильно разрешает один важный для искусства и художников прошлых эпох вопрос - о сюжетах из «священного писания». Он всячески одобряет в картинах Крамского, Ге и других художников стремление «уйти из-под формулы условных приемов» и внести в эту тематику «свою долю реализма», применить «суетную манеру» писать. С известными противоречиями, не будучи свободен от предрассудков религиозной метафизики, автор рецензии в конце концов приходит к тому, что отделяет религию от искусства. В оценке образцов живописи итальянского Возрождения Гончаров не расходится с идеалами самих художников и, несомненно, повторяет мысли Винкельмана, Гегеля, Гете, Белинского.
В картинах Рафаэля и других художников Возрождения Гончаров видит не божество, а идеал женщины той эпохи. Все изображения Рафаэля, по его мнению, являются идеализацией, «воплощением того, что есть самого чистого и нежного, и совершенного в человеческой натуре», в частности идеала материнской красоты.
Но самым важным в этой статье является вывод о том, что «бессильно становится искусство, когда оно вздумает из человеческих границ вступить в сферу чудесного, сверхъестественного».
Выше уже на конкретных фактах было выяснено понятие прогресса с точки зрения Гончарова. Далее следует сказать, что прогресс в искусстве Гончаров связывал с прогрессом в обществе, прямо заявляя, что «в наше время, когда человеческое общество выходит из детства и заметно зреет, когда наука, ремесла, промышленность делают серьезные шаги, искусство отставать от них не может. Оно имеет серьезную задачу - это довершать воспитание и совершенствовать человека. Оно так же, как наука, учит чему-нибудь, остерегает, убеждает, изображает истину, но только у него другие пути и приемы: эти пути - чувства и фантазия. Художник - тот же мыслитель, но он мыслит не посредственно, а образами. Верная сцена или удачный портрет действуют сильнее всякой морали, изложенной в сентенции» («Намерения, задами и идеи романа «Обрыв»).
В этом определении искусства - четком и сжатом - заключено много верного и отмечено главное: связь искусства с общественной жизнью, его общественная функция и его специфичность как идеологии.
Особенно положительным моментом является здесь то, что за искусством признается его высокая роль в качестве нравственного фактора.
Признание познавательного и нравственного значения искусства, мнение, что литература питает общество, как воздух, что литература - «просвещение вообще», - все это связывает эстетические идеалы Гончарова с идеалами величайших реалистов - Бальзака, Диккенса и др.
Просветительство Гончарова ограничено исключительно сферой культурного просвещения и воспитания. В силу этого гуманность литературы, ее основную задачу в отношении человека вообще Гончаров видел в том, что литература должна «делать человека лучше », она должна, будить «добрые струны » и «не затрагивать недобрых ». Вопрос, следовательно, поставлен безотносительно к обстоятельствам, от изменения которых, по убеждению Чернышевского и Добролюбова, зависела личность человека, качества ее. В известном смысле установка Гончарова может быть истолкована как идея примирения людей между собой и с действительностью, примирения общественных противоречий ради всеобщего усовершенствования нравов.
Эта установка, конечно, многое давала Гончарову в смысле реалистического изображения жизни и человека, но она определенным образом и суживала реализм этого изображения, ограничивала общественные функции художника.
Тезис же о том, что «искусство учит чему-нибудь» и «остерегает», также может быть истолкован как в положительном, так и в отрицательном смысле. Образ Обломова, например, учит чему-нибудь и остерегает в положительном смысле. Образ же Волохова задуман и осуществлен был как предостережение против мнимого нигилизма революционной демократии, против мнимой гибельности ее идеалов для культуры и прогресса.
В первом случае нравственная цель искусства заключается в критике уродливых и отрицательных явлений в общественной жизни. Во втором - в известной охране существующего строя от революционно-демократических выступлений масс.
И напрасно «охранительная партия» упрекала Гончарова за то, что он не ратует «прямо и непосредственно против радикализма». И прав был Гончаров, когда он отвечал: «Но я сделал свое дело - как автор и художник дав портрет Волохова - и дав в Бабушке образ консервативной Руси - чего же еще?» («Необыкновенная история»). Эта противоречивость эстетических определений Гончарова в данном случае проистекает из противоречивости художественных образов. Так, например, образом Веры в «Обрыве» Гончаров выразил не только прогрессивные стремления. По словам художника, в романе в лице Веры «поддержано уважение к религии».
Гончаров признавал идейность таланта. Лозунг «искусство - для искусства» - «бессмысленная фраза», - писал он. По мнению писателя, даже самая прекрасная техника не способна прикрыть «скудость содержания». О себе Гончаров говорит, что он всегда заботился «о добывании содержания». При этом Гончаров как художник был очень взыскателен к себе и другим. Будучи убежденным противником всякого формализма, он с большим укором говорил о том, что «мы сами продолжаем относиться к своему языку небрежно: в этом состоит громадная наша ошибка...»
Касаясь вопроса о формальном моменте в искусстве, Гончаров не склонен был преувеличивать значение литературной техники. Правда, в «отделку» своих произведений он «вкладывал половину труда», но в понятие отделки включались не только моменты собственно формальные, приемы искусства. «Отвожу много простора разумному и трезвому реализму, т. е. правде, действительности» - добавлял писатель.
Придерживаясь «гласности» и признавая право на «обличение», писатель требовал, чтобы литература изображала правду и избегала односторонности: «изображать одно хорошее, светлое, отрадное в человеческой природе значит скрадывать правду, то есть изображать неполно и поэтому неверно. А это будет монотонно, приторно, сладко. Света без тени изобразить нельзя...»
Поэтому искусство, по мнению Гончарова, должно представлять человеку «нельстивое зеркало его глупости, уродливостей, страстей, со всеми последствиями, словом - осветить все глубины жизни, объяснить ее скрытые основы и весь механизм, - тогда с сознанием явится и знание, как остеречься» («Намерения, задачи и идеи...»), ибо, по убеждению автора, в жизни рядом с правдой, к несчастью, гнездится и ложь, и представителями этой «новой лжи» якобы выступают люди, подобные Волохову.
Что касается требования светотени (рембрандтовский принцип) и критического элемента в изображении «человеческой природы», то это сами по себе высокие требования реализма. В данном случае они конкретизируются в форме «обличительного» реализма, не заключавшего в себе отрицания действительности и ставившего перед собою в основном цели морализирующие.
Будучи крупным художником, Гончаров, естественно, уделял большое внимание теоретическому обоснованию реализма.
За реализм в искусстве боролись и Белинский, и Чернышевский, и Тургенев, и Толстой, и Гончаров, но их пути борьбы были различны и зависели от их общественных идеалов.
Не разделяя позиций дворянской реакции в литературе, Гончаров вместе с тем отрицательно относился к «новым реалистам» в лице писателей революционной демократии. Он обвинял их в дерзком насиловании «вечных прав и законов» искусства, в отрицании основных «пособий» художественности - фантазии, юмора и типичности.
Гончаров опасался, как бы в угоду реализму не пришлось слишком ограничить или, того хуже, устранить фантазию. Художник полагал, что его реализм - это «не тот реализм», который проповедует новейшая школа за границей и «отчасти у нас». Здесь Гончаров имел в виду не только Золя и французских натуралистов, но и русских демократических писателей.
В статье «Лучше поздно, чем никогда» содержатся замаскированные нападки на писателей-шестидесятников, которые будто бы не признавали существенного различия между художественной правдой и правдой действительности, давали простые снимки с действительности, а не картины, освещенные фантазией.
Щедрин же, как один из ведущих представителей «новейшего реализма», осуждается за отречение от тех «могучих орудий» искусства (т. е. фантазии, юмора, которым ои якобы был обязан лучшими своими произведениями. Ставка же на ум, по мнению Гончарова, лишает произведения Щедрина и его соратников подлинной художественности, так как одного ума в искусстве мало, тем более что и «ум»-то в искусстве, по словам Гончарова, есть не что иное, как «уменье создать образ».
Отрицательно относясь к творчеству революционно-демократических писателей, Гончаров тенденциозно определял их эстетические установки. Все рассуждения Гончарова об эстетике Щедрина представляют собой прямую полемику с революционно-демократическим искусством.
Это ошибочное мнение Гончарова вытекало из своеобразного понимания им природы реализма. По мнению Гончарова, художник, если он действительно художник, «не прямо» описывает природу и жизнь, а как бы видит их отраженными в своей фантазии. В его понимании процесс творчества в том, собственно говоря, и заключается, что правда действительности сперва отражается в фантазии художника, а потом переносится им в произведение. На основании этого Гончаров приходит к выводу, что «художественная правда и правда действительности - не одно и то же».
В одном из писем Гончарова к Достоевскому эта мысль конкретизируется следующим образом:
«Вы знаете, - пишет он, - как большей частью в действительности мало бывает художественной правды - и как... значение творчества именно тем и выражается, что ему приходится выделять из натуры те или другие черты и признаки, чтобы создавать правдоподобие, то есть добиваться своей художественной истины».
Это суждение об отборе материала действительности в общей форме верно. Однако Гончаров, несомненно, преувеличивал творческое значение фантазии, полагая, что художник «приблизиться к действительности может только путем творческой фантазии».
В рецензии на картину Крамского «Христос в пустыне» Гончаров писал: «Художник пишет не один свой сюжет, а и тон, которым освещается этот сюжет в его фантазии. Реализм, правду сказать, посягает отделаться от этого, но это ему не удается. Он хочет добиться какой-то абсолютной, почти математической правды, - но такой правды в искусстве не существует. В искусстве предмет является не сам собой, а в отражении фантазии, которая и придает ему тот образ, какой установил исторический взгляд и какой осветила фантазия. Художник и пишет не с самого предмета, которого уже нет, а с этого отражения. Поэтому он и обязан подчиниться этому взгляду, если хочет быть верен, а если не подчинится, то он изменит исторической правде, то есть своему же реализму, давая свою собственную, выдуманную правду».
Мы разделяем стремление Гончарова избежать натурализма в искусстве и вполне согласны с тем, что «явление, переносимое целиком из жизни в произведение искусства, потеряет истинность действительности и не станет художественной правдой». Однако тезис Гончарова о том, что «У действительности свои законы, а у искусства свои» (см. письма к Валуеву), носит идеалистический характер.
Так выясняется основа переоценки Гончаровым роли фантазии в художественном творчестве.
Проблема отношения к творческой фантазии весьма любопытно решена Гончаровым в «Обрыве». Целый комплекс эстетических идей писатель высказал устами Райского. Некоторые суждения Райского об искусстве, несомненно, являются суждениями самого Гончарова.
Как «неизлечимый романтик», обольщенный фантазией, Райский «упорно нес картину в голове», «хотя действительность была другая».
Как реалист, Райский «вносил жизнь» в искусство, писал ее с натуры, восклицал: «Я буду рисовать эту жизнь, отражать как в зеркале!»
Гончаров осуждает в Райском неспособность владеть силой фантазии. Беда не в том, что у Райского богатая фантазия, - это признак таланта! - а в том, что она оставалась праздной.
Это всегда приемлю, а это ласково, не горячась, не осуждая, отвергаю, - именно так относился Гончаров к общественной и эстетической программе Райского.
Гончаров стремился согласовать права действительности с притязанием фантазии быть «основным пособием» художника в творческом воспроизведении действительности.
Творческий процесс представлялся Гончарову так:
«Но если он поэт и художник, он воскресит в себе, то есть в воображении, момент (или эпоху) пережитого или переживаемого чувства, уловит особенные признаки, веяния (неслышимые и нечувствуемые не-поэтами, хотя иногда и чувствуемые ими бессознательно), вдумается верно, пересоздаст испытанное - тогда и явится поэзия, - в содержании, или в форме, в самой мысли, в чувстве, или в сильном стихе, будет ли то картина, образ или лирическое излияние. Так делали наши отцы и учителя…» (из неизданной переписки с К. Р.).
Несомненно, что реализм предоставляет большую инициативу творческой фантазии художника, и при воссоздании прошлого, пережитого художник-реалист неизбежно будет итти тем путем, какой начертил в данном случае Гончаров. Однако в его высказываниях об искусстве мы не найдем ни одного указания по поводу того, какую роль играет творческая фантазия при изображении настоящей, современной действительности и черт, облика ее ближайшего будущего. И это не случайно.
Особенные разногласия с «эстетиками из новых поколений» у Гончарова были по вопросу о том, какую жизнь должен изображать художник. Как в теории, так и в практике Гончаров определенным образом ограничивал понятие жизни, могущей быть предметом художественного изображения в искусстве. Законы объективного творчества он базировал на требовании изображать только жизнь установившуюся, понимая жизнь не как процесс, а как данность, в лучшем случае - как замедленный процесс. Жизнь, «кишащую заботами нынешнего дня», романист не признавал достойным объектом для искусства.
Гончаров убежденно заявлял, что в «великую эпоху реформ искусству не над чем остановиться». Старые художники «дописывают» старую жизнь и прежних людей. «Искусство, серьезное и строгое, не может изображать хаоса разложения». Такое изображение, - говорит Гончаров, - дело «низшего рода» литературы - эпиграммы, карикатуры, сатиры. Истинное произведение искусства отражает только «устоявшуюся жизнь в каком-нибудь образе».
По мнению творца «Обломова», искусство интересуется только тем, что вошло в «капитал» жизни. С «новой нарождающейся жизнью оно не ладит» (из писем к Достоевскому), изображать ее - это дело «публицистов» типа Щедрина.
Практически это означало, что художник «освобождался» от слишком непосредственной связи с действительностью, от задачи изображения ее кричащих противоречий.
В то же время такая позиция давала возможность не порывать этой связи совсем и размежеваться с дворянской реакционной литературой, игнорировавшей вопросы реальной жизни.
Приведенные выше суждения Гончарова являются по существу осознанием его собственной творческой практики. Особенности своего творчества писатель ошибочно возводил в закон искусства вообще. Все три его романа отражали в основном дореформенную жизнь. Старую жизнь он умел изображать, новая жизнь решительно не давалась романисту, не раз признававшемуся в том, что он с «современными типами русского общества вовсе не знаком». Гончаров изображал только то, что мог воспроизвести из прошлого силой своей фантазии, предубежденно относясь к пристальному изучению современной действительности. Именно в силу этого Гончаров развивает апологию фантазия перед действительностью.
Социально-политическая основа эстетических идеалов Гончарова становится особенно ясной при сравнении этих идеалов с противостоящими им высказываниями Чернышевского об отношении искусства к действительности. Революционный демократ Чернышевский как раз страстно проводил «апологию действительности перед фантазией», побуждая тем самым писателей укреплять свои связи с современностью. Позиция Гончарова обеспечила ему успех в изображении старой жизни, в создании ее типических образов (Обломов), но оказалась решительно ограниченной и тенденциозной при изображении новых типов (Волохов).
Гончаров чрезвычайно интересовался проблемой типичности в искусстве. В типичности писатель-реалист видел результат правдивого отражения действительности:
«Если образы типичны, - читаем мы в «Лучше поздно, чем никогда», - они непременно отражают на себе - крупнее или мельче - и эпоху, в которую живут, оттого они и типичны, то есть на них отразятся, как в зеркале, и явления общественной жизни, и нравы, и быт».
Какие же особые условия нужны для того, чтобы образ стал типом? Прежде всего, говоря о «типе», Гончаров имеет в виду «нечто очень коренное и надолго устанавливающееся и образующее иногда ряд поколений». Образ становится типом с той поры, когда он «повторился много раз или много раз был замечен, пригляделся и стал всем знакомым». Не следует поэтому, говорит писатель, изображать те явления, о которых неизвестно, «во что они преобразятся и в каких чертах застынут на более или менее продолжительное время».
По поводу одного персонажа в очерке Достоевского «Маленькие картинки» (сб. «Складчина») Гончаров писал: «Если зарождается, то еще не тип».
Совершенно очевидно, что Гончаров и в данном случае проявляет ограниченность своих литературно-политических взглядов, согласно которым реализм не может «ладить» «с новой нарождающейся жизнью».
Очень существенную роль в создании правдивого типичного образа писатель отводил изображению человеческой психологии.
Без изображения обстоятельств и среды, по мнению Гончарова, не может быть достигнута верность «психической стороны». В то же время одна «подвижная картина внешних условий жизни» никогда не произведет на читателя действительно глубокого впечатления, если не затронет самого человека, его «психической» стороны. Это - чрезвычайно существенное требование реалистической эстетики.
Свое понятие типа в искусстве Гончаров последовательно проводил в суждениях о конкретных образах русской и мировой литературы. В частности он остается целиком верен себе в определении Гамлета Шекспира. По мнению Гончарова, «Гамлет - не тип» и «не может быть типом» в силу того, что свойства Гамлета как характера никак внешне не проявляются в людях, а являются лишь свойствами психологическими, состояниями души. Внешних же признаков, очертаний, по которым его можно было бы узнавать, нет. Конечно, у Гамлета есть свои типические черты (доброта, честность, благородство), но все это, говорится в заметке о Гамлете, «свойства слишком общие, свойственные человеческой натуре вообще и не кладущие никакой особой видимой печати на характер». Вот почему, по мнению Гончарова, чтобы исполнять Гамлета, надо «носить в себе часть гамлетовских свойств». Свойства Гамлета «неуловимы» в обыкновенном, нормальном состоянии, их нет никогда «в состоянии покоя».
Этот по своему существу реалистический взгляд на тип, характер в искусстве нуждается в развитии и дополнении. Гончаров суживает условия образования и существования типа.
В вопросе о характере в искусстве, точнее - о процессе, посредством которого «создаются» характеры в искусстве, Гончаров отбрасывает ложноклассическое учение о характере, учение о «врожденности» характера. Характер рассматривается как результат воздействия «среды». В этом пункте Гончаров, безусловно, созвучен западным реалистам (Бальзаку, Диккенсу). То же самое - в оценке роли внешней обстановки, фона (обстоятельств), пейзажа. Все эти моменты рассматриваются как неотъмлемая, органическая часть художественной картины и связываются с деятельностью людей.
В обосновании характера Гончаров очень настойчиво выдвигает значение социальной среды, человек рассматривается как прямое продолжение и продукт среды (Обломов, например). Общее определение характера в высказываниях Гончарова адэкватно определению характера у Гегеля, Бальзака. Он признает, что характер должен заключать в себе и общее (типичное) и индивидуальное.
Чрезвычайно интересен в этом плане взгляд Гончарова на тип Иудушки Щедрина. Этот взгляд вырастает из сознания связи искусства с жизнью. В письме к Щедрину от 30 декабря 1876 г. Гончаров, между прочим, отмечает «объективное величие этого типа» в том смысле, что этот тип мировой, вырастает на определенной почве, и если у него будет свой «Седан», то не в том смысле, что он может переродиться. Нет, он сгинет физически, но не изменит ни на иоту своей гнусной натуры.
Гончаров не противопоставлял Пушкина Гоголю, подобно сторонникам «чистого искусства»; он стремился по-своему синтезировать творческие достижения Гоголя и Пушкина, прямо говоря, что от них, т. е. от Пушкина и Гоголя, в русской литературе еще пока «никуда не уйдешь».
Однако в 60-х - 70-х годах, когда Гончаров сильно поправел в общественных взглядах, он начал осознавать свое несогласие с «критическим реализмом» Гоголя. Нигилизм был поставлен в прямую связь с гоголевским направлением литературы, с тем, что литература не только не сошла с «пути отрицания», который начался с Гоголя, а наоборот, двигается дальше по этому пути. Лично Гончаров заявил, что он стремится к выработке «положительного» отношения к действительности. Объяснение причин исторической силы «гоголевского отрицания» у Гончарова крайне примитивно. Упорность существования «отрицания» он обусловливал тем, что художнику будто вообще легче даются отрицательные образы.
Но истина заключается в том, что критический метод Гоголя, будучи революционным образом переосмыслен, служил орудием борьбы с существующим строем эксплоатации.
Художники, связанные в прошлом с «натуральной школой», но в дальнейшем отошедшие от нее, брали у Гоголя не сатирическую, а юмористическую тенденцию, употребляя юмор как основное средство затушевывания, смягчения классовых противоречий и отрицательных сторон жизни.
Гончаров решительно выставил юмор как первейшее сродство и свойство «реализма», «правды» в искусстве.
Упор в эстетике и искусстве делался Гончаровым на выработке, утверждении «положительных воззрений , на которых бы умы могли остановиться», что в тех условиях не было созвучно революционной литературе.
Тревога за судьбы литературы заставляла писателя советовать талантам не стоять на «скользкой дороге крайнего реализма», придерживаться «старых учителей», не отказываясь от законного развития, новых шагов в искусстве, если эти шаги не будут «pas de géants» и не будут колебать «основных законов искусства».
В 40-х - 50-х годах вопрос о сущности беллетристики вызвал жаркую литературную полемику. Белинский, анализируя «Кто виноват?» Герцена, назвал его первым русским «беллетристом» в том смысле, что тот создал новый тип романа, публицистического романа, сочетавшего в себе образы и прямые публицистические высказывания. Вслед за Белинским то же повторил В. Майков, но подчеркнул уже, что такой роман - это второй сорт художественной литературы.
В 50-х годах дворянская критика стала утверждать, что испокон веков спор о поэзии сводился к утверждению, во-первых, теории артистической, т. е. теории чистого искусства, которое само себе награда, и, во-вторых, теории дидактического искусства, которое стремится воздействовать на жизнь прямым учением. Отказ от чистого искусства, по мнению этой критики, вел к «загрубению литературы», к сухости, дагерротипированию, «мертвечине».
В 60-х - 70-х годах Гончаров частично разделял эти предрассудки, определяя демократическую литературу как литературу тенденциозную.
Роман Чернышевского «Что делать?» Гончаров охарактеризовал как «бездарный, тенденциозный памфлет», а художников революционной демократии заклеймил в «Литературном вечере» словечком «крякающие».
Гончарову казалось, что талант, если он действительно талант, никогда не лжет, но всегда изображает только правду. При этом он выступал убежденным противником того, чтобы тенденция внешне выступала в образе. В своей творческой практике писатель всегда стремился глубоко скрыть тенденцию в образе. Примечательно то, что неудачу образа Волохова он объяснял, между прочим, тем, что тенденция сплошь и рядом выступает в этом образе сама по себе. Более того, писателю казалось, что даже образ «Обломова» немного «тронулся», когда Обломов сам заговорил о себе в романе. Проблема тенденциозности в искусстве решалась Гончаровым в непосредственной связи с проблемой «свободы» творчества. Объективному художнику нельзя ни задать темы, ни указать события, к которому «художественный инстинкт» не привел его самого. Фантазию невозможно подчинить цели, привнесенной извне. Художнику нужна «авторская независимость».
Под пером Гончарова это означало полемику с требованиями революционной литературы служить «злобе дня», т. е. передовым интересам времени.
Гончаров с раздражением писал Валуеву, что «искусству почти нет места», что «эстетики из новых поколений навязывают ему чересчур практическую роль, деспотически требуя от него рабской службы моменту», и что в силу этого якобы в стороне остается общечеловеческое, страсти, светлые идеалы.
В отзыве на роман Валуева «Лорин» дается практическое применение теории «объективности», дается совет не всегда вступать в открытую борьбу, полемику с противником. Несоблюдение этой тактики может привести к поражению. Тактика сводится к тому, что в политике «для вернейшего успеха надо ставить, развивать, распространять свои тезисы, а в произведении искусства изображать их объективно, не трогая противника, а игнорируя их».
На основании того, что Гончаров в своем творчестве действительно стремился к такого рода объективности и достигал больших художественных результатов, бард «чистого искусства» Дружинин говорил, что Гончаров «есть художник чистый и независимый» и будто бы является подлинным учеником Пушкина, который-де отличался «незлобивостью», «не помнил зла в жизни, прославлял одно благо». Объективность, «гетеанство» Пушкина сторонники «чистого искусства» определяли как отрешенность от «злобы дня».
Большое значение Гончаров придавал искренности в искусстве. Искренность в искусстве писатель определял как непринужденное высказывание впечатления, идущего от сердца. Гончаров отказывал в искренности революционным художникам.
Революционную идейность Гончаров рассматривал как нечто неестественное, незаконное, идущее только от ума, вопреки сердцу, чувствам. Искренность же он признавал принадлежностью художников типа Фета, Полонского, гр. Кутузова и др.
Правда, надо учитывать, что эти суждения об «искренности в искусстве» приходятся на взгляды последних лет жизни писателя.
В свете проблемы объективности становится понятно сильное увлечение Гончарова (в 30-х - 40-х годах) Винкельманом, этим «президентом античности».
Во взглядах Винкельмана отложились итоги буржуазной мысли XVIII века. Винкельман учил, что «объективная красота» есть естественная гармония общественных отношений.
Антиреволюционная буржуазия XIX века, принимавшая 1793 год, но не 1789-й, стремилась к гармонии общественных отношений, она по-своему восприняла идеал «гармонии» в греческом искусстве и по-своему черпала из него идеалы «благородной простоты и спокойного величия».
Гончаров в русском обществе тоже искал некое «золотое сечение», гармонию на основе примирения классов.
Винкельман выдвигал «спокойствие» как наилучшее средство в наблюдении и познании природы и вещей.
Гончаров по-своему это осмыслил как право художника на спокойствие и объективность («Sine ira»).
Эстетический и общественный идеалы Гончарова в данном случае совпадали. Под влиянием идей Винкельмана Гончаров стал эстетически идеализировать действительность и людей. Штольц, Тушин - «настоящие новые люди» - обрисованы как эллины, как совершенные человеческие индивидуальности, скроенные по античному образцу.
Их чисто человеческая красота сочетается с верноподданничеством.
Непосредственное отношение к этому вопросу, к вопросу об идеале героя в литературе, имеет тема статьи «Миллион терзаний».
«Миллион терзаний» играет в литературно-критическом наследии Гончарова исключительно важную роль.
Буржуазное развитие заново поставило проблему человека. Старые культурные кадры дворянской интеллигенции продемонстрировали свою полную несостоятельность в решении практических вопросов общественной жизни.
Одно время на либеральных романтиков типа «людей сороковых годов», людей, приходивших на «rendez-vous», возлагали кое-какие надежды. Но уже в 1858 г. Чернышевский, имея в виду героя тургеневской «Аси», заявил, что «не от них ждем мы улучшения нашей жизни», что не он «лучший среди лучших».
Либеральная критика, напротив, хотя и признавала, что человек, приходящий на «rendez-vous», является «слабым» характером, но все же считала, что он остается будто бы единственно «нравственным» типом. Все так называемые «цельные», сильные характеры - явление отрицательное, - говорил Анненков. По его мнению, «слабый» характер много сделал и является «орудием современной работы».
Свое отношение к «слабому» характеру Гончаров категоричнее всего высказал в Райском. Итог в общем нелестный. Романист искал других типов - сильных, цельных характеров и, вопреки мнению Анненкова, находил их не исключительно «в земледельческих классах».
Дружинин и Анненков отрицали возможность создания в литературе героя городской культуры. Городская культура, - говорили они, - обезличивает цельный характер, снижает его. Живя в городе, герой утерял свою величественную осанку и величавую поступь. Он стал, увы, разделять свои вкусы и страсти с толпой.
Гончаров не одобрял этой реакционно-романтической теории героя в литературе. Впервые в русской литературе он создал «цельные» характеры, «положительные» как в деятельности, так и в нравственном отношении. Он выступал с признанием городской культуры, буржуазности.
Гончаров был солидарен с представлениями В. Майкова о современном человеке как человеке «положительном ». «Быть положительным - значит заключать себя в пределы мира существующего». Положителен тот, кто «прилеплен к жизни», вне ее ничего не хочет знать, считая все остальное «призраком».
Эту позитивистскую установку в понимании современного человека Гончаров реализовал в образах своих героев.
В конце 50-х годов дворянская и либеральная критика утверждала, что в русской жизни и характере нет ничего «похожего на героический элемент». Задачи современности будут разрешены не героями, как то было в Западной Европе, а «трудом сообща». Поэтому нет нужды в исключительных и больших героях.
Но Гончаров не стоял на точке зрения абсолютного отрицания героизма в характерах и стремился осуществить в искусстве свою идею героя. Фигуры Штольца и Тушина выписаны как героические, с явной идеализацией их достоинств. Им посвящено много поэтических страниц, и для них созданы лучшие образцы женской красоты и ума, призванные воодушевлять и услаждать этих героев деловитости.
В своих романах Гончаров показал окончательный итог исканий «лишнего человека», конец тургеневских «безвыходных положений» и взамен этого вывел на арену истории тип культурного буржуа и капитализирующегося помещика.
«Безвыходность положений», «лишние люди» - итог и следствие ограниченности дворянской «революционности», дворянско-либеральных реформаторских стремлений, свидетельство кризиса дворянской литературы.
Гончаров вышел из этого круга ограниченности, увидев в буржуазии героя современности.
Положительность стремлений Гончарова в этом вопросе очевидна. Но, сравнивая идеал гончаровского героя с идеалом героя революционной демократии, мы видим здесь большую разницу.
Гончаров не знал новых людей и не умел изображать их. И если бы мы некритически взяли методы изображения человека у Гончарова, то не справились бы с задачей. Уже Щедрин выдвинул новое требование реализма в изображении человека, его психологии и поведения. Он требовал изображать человека всесторонне, не только как он есть, как он действует, но и как бы он действовал в определенных обстоятельствах.
А. М. Горький в своих «Беседах о ремесле» по этому вопросу, между прочим, заметил, что «реализм справился бы со своей задачей , если бы изображал человека не только таким , каков он есть сегодня , но и таким , каков он должен быть и будет завтра ». Человек тут берется в связи с движением действительности. Этого как раз нехватало героям Гончарова, тан как он не стремился изображать самую современность, ее будущее и будущее ее людей.
Касаясь проблемы творческого метода, писатель основное внимание уделяет не тому обстоятельству, что «художник мыслит образами», а вопросу, «как он мыслит». Одни говорят - «сознательно», другие - «бессознательно». По Гончарову - «и так и этак ». Все зависит будто от того, что преобладает в художнике: ум или фантазия, сердце. В первом случае ум заслоняет образ и является тенденцией. В таких случаях ум досказывает то, чего «не договаривает образ». Если же преобладает фантазия, - образ «поглощает» в себе идею и говорит сам за себя.
Это разграничение ума и фантазии в искусстве у Гончарова является ошибочным и не может служить объективным критерием в определении художественности произведения. Гончарову казалось, что тенденциозность в искусстве разрушает образность.
Истина, однако, такова, что не всякая тенденциозность враждебна художественности. Еще Чернышевский, говоря, что искусство должно быть «учебником жизни», в то же время был противником дурной тенденциозности. Он утверждал что в искусстве все конкретно, что «искусство выражает идеи не отвлеченными понятиями, а живым индивидуальным фактом».
Гончарову же художественный процесс представлялся как процесс бессознательный, как «необъяснимый процесс », как «инстинктивное воплощение ».
Кстати, Райский тоже, чтобы творить, стремился «ослепнуть умом », только «ощущать жизнь, а не смотреть в нее», а уж если смотреть, то только для того, чтобы «срисовать сюжеты», факты, не дотрагиваясь до них разъедающим, как уксус, анализом.
Изгнать анализ из «художественных поисков правды» - такова задача этой эстетики, таковы цели писателей, не желающих заходить в дебри общественных противоречий и бросаться «в мутные волны современности».
Гончарову казалось, что он сам, вся окружающая его среда «силою рефлексии» отразились в его воображении как в зеркале и над романами его совершился «этот простой физический закон ».
Важно всегда знать существо дела, а не степень искренности человеческих заблуждений. Во имя объективности Гончаров приглушает рациональный момент творчества, момент сознательности, механизируя представление об отражении действительности в произведениях искусства.
Таким образом, в понимании творческого процесса Гончаров делал иногда неверные выводы, невольно допускал мистификацию в решении вопроса, следуя традиционным представлениям старой эстетики.
Во всех своих высказываниях о литературе Гончаров выступал с обоснованием русского реалистического романа.
В формальном отношении романист придерживался принципа буржуазного реалистического романа, преимущественно интересовавшегося «частной» жизнью героя.
Общественные отношения, как правило, показаны им косвенно, сквозь призму семейно-бытовой обстановки. Романист увлечен поэзией частной (семейной) жизни, поэзией любви и, конечно, страсти.
Известно, что теория человеческой страсти в свое время сыграла прогрессивную роль в развитии буржуазной реалистической литературы. Классицизм отрицал живую человеческую страсть, поскольку характер в его трактовке был неподвижен. Гегель говорил, что без великой страсти не совершается ничего великого. Бальзак строил свои характеры на какой-либо большой страсти, на «преобладающей страсти». В России уже Радищев стал доказывать «пользу страстей», мотивируя это потребностью изображения живой личности с критическим подходом к действительности. Гоголь придавал огромное значение страсти человека. Человек у него подчинен одной постоянной страсти.
Следовательно, отведение важной роли страстям в искусстве само по себе не ново. Вопрос в том, какова преобладающая страсть.
В критическом очерке «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв» Гончаров писал:
«Вообще меня всюду поражал процесс разнообразного проявления страсти, то есть любви, которая, что бы ни говорили, имеет громадное влияние на судьбу и людей, и людских дел. Я наблюдал игру этой страсти всюду, где видел ее признаки, и всегда порывался изобразить их, - может быть, потому, что игра страстей дает художнику богатый материал живых эффектов, драматических положений и сообщает больше жизни его созданиям. Работая над серьезной и пылкой страстью Веры, я невольно расшевелил и исчерпал в романе почти все образы страстей».
Гончаров вовсе не ограничивается показом любовной страсти, он отводит ей лишь существенное место.
Поэтика романа у Гончарова отличается от поэтики революционно-демократического романа, развиваемой, например, Щедриным (см., например, «Господа Ташкентцы»).
Как известно, Щедрин подвергал резкой критике «принцип семейственности» старого романа. Гончаров же по поводу «Обрыва» заявлял, что «на первом плане » в романе находятся «неизбежные отношения обоих полов между собой».
В противовес этому Щедрин в «Господах Ташкентцах» говорил, что «роман современного человека совершается на улице, в публичном месте - везде, только не дома...»
Новая драма - по убеждению Щедрина - дает «образцы борьбы», гораздо более замечательные, нежели те, которые представлял «старый», «семейственный» роман.
Щедрин - вслед за Чернышевским - с позиций революционного просветителя и демократа развивал новую теорию романа.
Гончаровская же теория романа ограничивала художника рамками изображения уже отстоявшихся общественно-бытовых отношений.
Щедрин, конечно, выдвигал задачу новую и очень трудную, создавал новые традиции реалистического романа. Однако у нас нет никаких оснований осуждать поэтику романов Гончарова. Конечно, мы знаем, что преобладающей страстью в истории является страсть общественных стремлений, что сама любовная страсть, которой Гончаров как художник уделил такое большое внимание, ее красота и сила зависят от силы и красоты общественных страстей человечества. Но в то же время мы знаем, что не только для частной, но и для общественной жизни дворянского класса характерно было преувеличение роли и места такой категории человеческих взаимоотношений, как любовь. И потому, изображая в основном дворянско-поместный быт, Гончаров не мог не изобразить, обойти эту страсть. Писатель не оступился как реалист, он дал типическое отражение типичных фактов и явлений, не солгал как художник.
Другое дело, что при всех обстоятельствах показ любви, отношений полов не является углом наиболее всестороннего показа жизни. И хотя художник поворачивает предмет перед собою и смотрит на него со всех сторон, сама позиция обусловливает то, что писатель фиксирует внимание на второстепенных, по сравнению с более важными, явлениях.
Несмотря на отличие романа Гончарова от романа Щедрина, было бы неверно говорить, что гончаровский роман - это только «семейственный» роман, что он не имеет ничего общего о «социальным» романом.
Творчество Гончарова является важным этапом в истории развития русского романа XIX река, в частности социально-бытового романа.
В своих высказываниях по вопросам литературы Гончаров предстает перед нами в кругу многочисленных писателей-современников, оценивая не только отдельные произведения и образы, но и целые направления литературы.
Гончаров как художник не имел за собой последователей, так как выступил в заключительный период дворянской литературы, отдал весь свой талант изображению прошлого, дореформенной жизни. Но он включался в могучий поток русской литературы XIX века и полагал, что отечественная литература развилась на основе исторической преемственности, взаимосвязи литературных явлений. Русский реализм Гончаров ведет от Фонвизина через Грибоедова к Пушкину и Гоголю. Как крупный художник он вглядывается в предшествующие десятилетия русской литературы и не может не заметить там Нарежного, которого оценивает (см. письмо к М. И. Семевскому) как «первого русского по времени романиста». «Он школы Фон-Визина, его последователь и предтеча Гоголя», «он всецело принадлежат реальной школе». И Гончаров вовсе не преувеличивает, видя в его романах пусть еще туманные и слабые, но зачатки типов, разработанные потом сполна и в совершенстве Гоголем.
Вряд ли можно на основании этого факта упрекать Гончарова в том, что он ставит знак равенства между реальной школой вообще и гоголевской «натуральной школой» в русской литературе в частности.
Гончаров, и это было ясно из всего предшествовавшего, отлично понимал различия течений в реальной школе. С точки зрения основного характеристического признака, он правильно оценивает Нарежного.
Особо следует подчеркнуть и тот факт, что Гончаров находит в линии Фонвизен - Нарежный - Гоголь в первую очередь не формальные признаки, а идейные. Гончаров считает необходимым отдать справедливость и уму и необыкновенному, по тогдашнему времени, умению Нарежного «отделываться от старого и создавать новое». Он отмечает положительную роль автора «Русского Жиль-Блаза» «в борьбе с старым языком, с Шишковской школой», хотя подчеркивает и архаические пережитки в языке самого Нарежного.
В лице Крылова, Пушкина, Грибоедова, Лермонтова и др. Гончаров видел «пролагателей новых путей в литературе, могучих пионеров русского «лава». В Пушкине он признавал «отца русского искусства в слове», считал его великим образцом, учителем в искусстве. Проблема Пушкина для него - проблема подлинного реализма. Лермонтов и Гоголь - его прямые наследники,- говорит Гончаров,- породившие «целую плеяду нас» - деятелей 40-х - 60-х годов с Островским, Тургеневым, Писемским, Салтыковым и т. д.
Уже в этом одном факте видна широта его литературных понятий.
Особо следует оговорить отношение Гончарова к Тургеневу. Если не брать в расчет субъективных домыслов и пристрастий Гончарова к Тургеневу (дело в связи с мнимым плагиатом Тургенева - см. «Необыкновенную историю»), то в общем Гончаров дает чрезвычайно высокую и во многом верную оценку Тургенева как художника.
Субъективность Гончарова сказалась в стремлении признавать в Тургеневе только «художника-миниатюриста». Но прав Гончаров, когда пишет о «Записках охотника» Тургенева: «Ни у кого так художественно мягко не изображалось крепостное право и его уродливости, - и почти нигде русская деревенская жизнь и русская сельская природа не рисовались такой нежною, бархатной кистью!» Особенно одобряет он тот факт, что у Тургенева нет никакой «жестокости между нами и крестьянами», что автор «Записок» «не возбуждает ни малейшего озлобления и раздражения двух классов между собою». Гончаров очень верно судил о некоторых особенностях таланта Тургенева, которые отличали их друг от друга. Но вместе с тем он подчеркивал общность с Тургеневым своих общественных идеалов в 60-х годах фактом признания того, что «его заслуга - это очерк Базарова в Отцах и детях . Когда писал он эту повесть, нигилизм обнаружился только, можно сказать, в теории, нарезался , как молодой месяц - но тонкое чутье автора угадало это явление - по его силам, насколько их было, изобразило в законченном и полном очерке нового героя. Мне после, в 60-х годах, легче было писать фигуру Волохова с появившихся массой типов нигилизма - и в Петербурге и в провинции».
Что касается творчества Достоевского, Писемского и др., - тут Гончаров «не мог удовлетвориться вполне».
Если верить И. Ясинскому как живому свидетелю мнений Гончарова, то последний в целом отрицательно относился к таланту Достоевского (см. «Ист. вестник» № 2, 1898 г.).
В Герцене Гончаров признавал замечательного общественного деятеля, который, по его мнению, был «во многом полезен России».
К Льву Толстому у Гончарова было всегда самое лучшее отношение. Его «высокий талант» вызывал в нем восхищение (admiration).
Чрезвычайно интересно следующее суждение Гончарова о Льве Толстом: «В графе Льве Толстом читатели наслаждаются его художественною кистью, его тонким анализом - и вовсе не увлекаются большим светом, потому что, как истинный, непосредственный художник, он тоже им не увлечен - и потому его люди большого света - такие же люди, как и все прочие, т. е. образованные. Граф Толстой действует, как поэт, творец, на читателей - и с таким мастерством и авторскою любовью пишет крестьян, леса, поля, даже собак, как и столичные салоны с их обитателями. И читатель следит за ними с такою же любовью, не замечая вовсе вопроса о высшем классе, к которому остается равнодушен, как и сам автор!»
В своей жизни и деятельности Гончаров коснулся и Некрасова и Добролюбова, питая к ним явное расположение.
Вообще симпатии его к писателям-современникам сложны и противоречивы.
С большой симпатией Гончаров отзывается о Белинском, но явно морализирует проблему Белинского. «Заметки о личности Белинского», несомненно, таят в себе, помимо всего прочего, полемические цели. В 60-х - 70-х годах проблема Белинского была очень актуальна, и вокруг имени Белинского шла сложная борьба.
В своих «заметках» Гончаров - это не трудно видеть - проводит линию на известный отрыв Белинского от поколения революционных шестидесятников - Чернышевского и Добролюбова.
Из второстепенных эпизодов следует оговорить переписку Гончарова с Валуевым и К. Р.
В гончаровской оценке романа Валуева «Лорин» много лестных мнений, вызванных условностью отношений адресатов между собою.
Но вместе с тем Гончаров не скрывал правды, замечая, что у автора романа «Лорин» «нет веры... в реализм».
В более «щекотливом» положении оказывался Гончаров, давая отзывы на стихи К. Р. Однако и здесь, несмотря на характер личности автора, он не скрывал правды, укоряя даже адресата в известном пренебрежении к «черновой работе в поэзии». Но главное значение этой переписки состоит в том, что она насыщена вопросами искусства вообще.
Нельзя обойти и суждений Гончарова о театре и драматургии, представляющих большой интерес и являющихся существенной частью его высказываний об искусстве вообще.
В 1872 г. Гончаров в связи с бенефисом Монахова написал свою знаменитую статью «Миллион терзаний» (о «Горе от ума» Грибоедова), в которой не только дал глубокую и верную оценку литературно-драматургических достоинств пьесы и ее сценического выполнения, но и поставил ряд важнейших вопросов о судьбах русского театра.
С исключительной симпатией относился Гончаров к творчеству Островского, с пристальным вниманием следил за движением его пьес на театре, написал (в 1874 г.) большую критическую статью о нем, которую, однако, не опубликовал, вероятно, вследствие исключительно резкой характеристики равнодушного отношения к Островскому «высшего круга», его эстетической консервативности.
Как известно, еще в 1860 г. Академия наук именно к Гончарову обратилась с просьбой дать отзыв о «Грозе» Островского на предмет предоставления уваровской премии. Гончаров чрезвычайно высоко оценил драму, ее типы, язык, «взятый из действительности, как и сами лица, им говорящие».
Прогрессивное значение творчества Островского по его мнению состоит в том, что он «почти никогда не оставляет самодура кончить самодурством - он старается осмыслить и отрезвить его под конец действия».
Суждения Гончарова о творчестве Островского вполне выдерживают критерий нашей современности.
Значительный эстетический интерес представляют собой также заметка о «Гамлете» Шекспира и высказываний о русской исторической драме (А. Толстой и др.), о французской комедии и т. д.
Особенно настойчиво и горячо Гончаров проводил мысль о необходимости максимального изучения и использования классического наследия мирового и русского искусства, в частности драматургии и театра, прямо заявляя, что без сохранения великих традиций классики искусство захиреет, измельчает и выродится.
Этому же вопросу собственно и посвящено было письмо к П. Д. Боборыкину.
В русском театре 70-х - 80-х годов наблюдался упадок интереса к классическим традициям театра, к классическому репертуару (Грибоедов, Пушкин, Мольер), наметился резкий отход к грубому натурализму в игре и к репертуару «переделочного» характера. Фарс наступал на классику, и перед театром стояла опасность опошления.
Разумеется, причины такого положения театра в то время лежали значительно глубже, чем их видел Гончаров. Однако основная мысль Гончарова в письме к Бабрыкину безусловно была верна и прогрессивна с точки зрения развитая русского театрального искусства.
В письме Гончарова следует отметить не только различение понятия «театральное искусство» от понятия драматического искусства вообще, но - что важнее всего - вопрос «об отношении артиста к выражаемому», из которого (этого отношения), по словам автора, вырастает «психо-эстетическая сила», определяющая собою материальные средства художественного выражения. Причем особую роль в умении артиста создать образ Гончаров отводит «подготовке», т. е. комплексу литературного, драматургического и театрального образования.
Отсутствие настоящей подготовки артиста, - говорит Гончаров, - ведет к тому, что на сцену идут по фигуральному выражению Дидро, «как в солдаты».
Будучи убежденным противником всякого формализма в искусстве, преувеличения значения техники, Гончаров категорически указывает на то, что пристрастие только к одной технике может привести к «рутине», к «разобщению с живой жизнью». Не спасет от этого и талант сам по себе.
Гончаров требует сочетать талант и труд, технику.
Гончаров подчеркивает как бесспорный факт, что отсутствие классического репертуара на театре приводит к тому, что в самом театре, его кадрах и в школе теряются традиции, без которых нельзя создать подлинно высокое театральное искусство современности.
Гончаров в положительном смысле стремится решить проблему использования классического наследия новым искусством.
Касаясь вопроса артистических кадров, Гончаров замечает, что свободу артистической деятельности не следует понимать как свободу от... грамматики, географии, историй, литературы, без чего не могут образоваться ни ум, ни вкус, ни критическое понимание образцов своего искусства.
Особенно большое значение Гончаров придает языку, культуре, произношению артистом своей роли, видя в умении декламировать одно из главных свойств артиста и основное требование классического репертуара.
По мнению Гончарова, выполнение этих задач «реформы» позволит русскому театральному искусству поднять свое значение и достичь того, чтобы «встал из праха и прежний репертуар, ожили бы и традиции и с новою силою воцарились бы гений Шекспира, Мольера, Шиллера, etc!»
Наша современность только положительно может расценить эти эстетические идеи и надежды замечательного мастера русского романа и должна учитывать их в творческой работе современного советского театра.
Вопрос об отношении Гончарова к западноевропейской литературе до сих пор остается совершенно неизученным. А между тем Гончаров, как и другие русские писатели, испытывал на себе - на своем творчестве и эстетических взглядах - идейно-художественные влияния западноевропейского реализма.
Влияние Бальзака на творчество и эстетические взгляды Гончарова требует, конечно, особого и всестороннего рассмотрения. В данном случае необходимо пока что сказать, что в русской действительности идеи Бальзака не могли не подвергнуться существенной метаморфозе. Бальзак показал и достижения и вопиющие противоречия буржуазного общества. Уже это не гармонировало со стремлениями Гончарова, который, наоборот, интересовался преимущественно положительной стороной буржуазной культуры. В показе буржуазии и буржуазности Гончаров не применял в основном метод критики. Как раз именно по этой линии намечались у него поиски типа положительного героя.
У Бальзака Гончаров мог взять признание, а не критику буржуазного общества. Бальзака интересовала «история социальных отношений», Гончарова - гармония их.
Правда, уже в «Обыкновенной истории» был отражен тот факт, что противоречия, которые несет с собою капитализм, стали всепроникающими, дошли и до «Грачей», имения Адуевых, заставили его обитателей видеть в городе не только «омут», но и «обетованную землю». И мы видим, как наш герой с двадцатью двумя парами носков, двумя дюжинами рубашек из тонкого голландского полотна, с Евсеем в придачу, напутствуемый бестолково любящей матерью, «весь расплаканный», уехал «искать счастье», «делать карьеру и фортуну».
Эта тема стремления провинциального дворянского молодого человека к карьере в городе прежде всего отражала реальные сдвиги самой русской жизни, но имела нечто общее и с тематикой западного реализма, с традицией романа «провинциальных нравов». Но тут персонажами являлись не выходцы из дворян, а представители других классов, средней и мелкой буржуазии. Важно однако не это, а как осознал Гончаров эту «бальзаковскую» тему «утраченных иллюзий». В романе Гончарова нет трагизма и резкости конфликта. В страданиях Адуева - много комичного.
Гончаров, аналогично Бальзаку, стремится обосновывать характеры средой, стремится к подробным описаниям быта, вещной обстановки, окружения героя, людей, делающих среду.
Если Бальзак показывал то, что «происходит повсюду», то Гончаров свой роман назвал «Обыкновенной историей».
В отношении к Флоберу Гончаров занимал сдержанную позицию. Он отмечал высокую технику его произведений, но вместе с тем говорил, что он мало идеен вследствие пристрастия к натуралистическому изображению действительности.
Таким образом мнения Гончарова, будучи последовательны, не лишены и спорности.
В отношении Золя и Додэ Гончаров говорил, что это «истинно талантливые французы» (70-е годы), но потом его взгляд в отношении Золя резко изменился, и он стал его оценивать в общем аналогично тому, как оценивала его право-либеральная и консервативная критика в России.
В одном из писем к А. Ф. Кони Гончаров, видимо о «Земле», писал: «...Zola дошел до геркулесовых столбов поэзии хлева и свинства. С его талантом и отвагой возможно, что он пойдет далее и откроет еще какую-нибудь Америку скотской пакости».
Совершено иначе, чем к Флоберу и Золя, относился Гончаров к Диккенсу. «В нашем веке, - говорит он в «Лучше поздно, чем никогда», - нам дал образец художественного романа общий наш учитель романистов - это Диккенс. Не один наблюдательный ум, - а фантазия, юмор, поэзия, любовь...» и т. д.
Ту же самую мысль и значительно раньше писатель высказывал в своих письмах, что свидетельствует об устойчивости его мнения в этом случае.
В творческих принципах, в характере таланта, в методах изображения действительности между Гончаровым и Диккенсом есть немало схожего.
В годы молодости он был внимателен к Жюль Жанену, Ж. Занд и др. В Ж. Занд он признавал настоящий талант, но резко отрицал ее общественные идеалы, спорил по этому поводу с Белинским, не одобряя типа женщины в Лукреции Флорианни, ее нравственных принципов.
Проблема отношения Гончарова к западноевропейской литературе требует специального всестороннего и глубокого исследования.
Изучение Гончарова на фоне западноевропейских литератур с новой стороны раскроет перед нами его творческую практику и эстетические убеждения.
Коренной вопрос искусства и литературы, всякого творчества - вопрос об отношении искусства к действительности - Гончаров решал правильно, реалистически. Жизнь он признавал единственным источником творческого познания и вдохновения художника, но определенным образом ограничивал себя в объекте изображения, - писал нравы и быт дореформенной поры. С пристальным вниманием относясь к прошлому, он многое не заметил и не осознал в настоящем. В его подходе к действительности было мало живости, диалектики, всесторонности. Это отношение находилось в определенной связи с общественной программой писателя. Но этот факт - не препятствие для объективного интереса к наследию Гончарова.
Изучение литературно-эстетических взглядов Гончарова обогащает наши представления но только о характере и сущности его творчества, но и о литературно-общественной борьбе 60-х - 70-х годов прошлого века.
Чтобы правильно понять позицию Гончарова, нужно учитывать характер его отношения не только к революционно-демократическому лагерю, но и к лагерю реакционному.
В высказываниях Гончарова по вопросам литературы и искусства затронуты многие из тех проблем, которые актуальны и волнуют нашу современность. И прежде всего в его лице мы видим убежденного противника всякого формализма и натурализма в искусстве. Он не только мастер, но и один из выдающихся теоретиков русского реалистического романа.
Литературно-критическое наследие Гончарова представляет собою важную страницу в истории развития эстетических воззрений в России XIX века.
А. Рыбасов.
Сноски
1 Мы считаем неверным ограничивать «натуральную школу» только кругом писателей в лице Гребенки, Буткова, раннего Достоевского, Панаева и др.
Иван Гончаров — русский писатель, цензор, переводчик, литератор. Его перу принадлежит произведение «Обломов» и другие шедевры.
Иван гончаров — это образец писателя, который сумел филигранно выразить особенности русского общества, морально-нравственные ценности, надежды.
Иван Гончаров знаком многим любителям литературы, это самобытный русский самородок, достойный гражданин своей эпохи. Он проявил себя и в качестве литературного критика, знатока словесности, кроме того, был он на государственной службе, находясь в звании статского советника.
Родился он в 1812 году в городе Ульяновске, который в то время назывался Симбирском. Принадлежал к купеческому сословию, детство провел в городе, в семейном гнездышке-имении.
Первые годы писателя
Первые годы оказали значительное влияние на все последующее творчество, мировоззрение. Большой дом и хозяйство он сравнивал с целой деревней, поскольку в импровизированных складах была мука, пшено, другая провизия, имелись погреба и амбары, ледники — это было необходимо для обеспечения нормальной жизни семейства, дворовых крестьян. Впоследствии он с удовольствием описывал жизнь русского быта.
В возрасте 7 лет умер его отец, и воспитание в полной мере легло на плечи матери и крестного Николая Трегубова. Он отличался широтой взглядов, и мальчик впоследствии очень тепло отзывался о его человеческих качествах, которые также во многом позволили ему сформироваться, как личность. Крестный помогал не только словом, но и делом, впоследствии их два имения объединились, таким образом жизнь стала ещё более насыщенной, интересной.
В возрасте 10 лет мальчика посчитали уже достаточно взрослым для прохождения дальнейшего обучения в Москве, и он обучался в Коммерческом училище на протяжении 8 лет.
Нельзя сказать, что это было лучшее время в его биографии, впоследствии писатель опишет этот этап жизни как скучный, малоинтересный. Однако этот период помог ему расширить интеллект, он приобщился к отечественной литературе, познакомился с трудами Карамзина, Державина, с другими видными деятелями.
Первым кумиром можно назвать , Гончаров с нескрываемым восхищением описывал впечатления от его поэмы и восхищался человеческими качествами писателя. Гончаров понял, насколько гибким и выразительным может быть русское слово, оно затрагивает до глубины души. Именно пушкинские высочайшие стандарты были взяты им за образец словесности, поэтому неудивительно, что и сами литературные творения Гончарова тоже можно охарактеризовать как образец, классика.
Университетские годы
Писатель окончательно понял, что Коммерческое училище - это абсолютно не его стезя, которая, скорее, разрушает душу, нежели наполняет знаниями. Он отправил трепетное письмо к материи, прося ее написать прошение об исключении из числа студентов, что и было выполнено. Однако это вовсе не означало, что юноша разочаровался в образовании. Напротив, он взял планку, которая была ещё выше.
В 1831 году он поступил в знаменитый Московский университет на словесный факультет. Университет и по сей день считается лучшим в стране, так было и в те годы, а вместе с Гончаровым студентами числились такие будущие литературные светила, как Лермонтов и Тургенев, Белинский, Герцен, Огарёв.
После окончания университета в 1834 году он хотел остаться в Москве, приезжая и в Санкт-Петербург. Эти два города казались ему самыми передовыми, они сосредоточили в себе всё лучшее, самую образованную часть населения. Собственно, до сих пор Москва, Санкт-Петербург привлекают талантливую молодежь.
Гончаров был неприятно удивлён изменениями своего родного города, точнее, их полным отсутствием. За всё то время, что он пробыл в столице, город так и не вышел из спячки, ничего в нём не изменилось, совершенно не чувствовался прогресс. Это удручало писателя, он желал вернуться обратно, но остался в Симбирске, где проживала его мать, сестры.
Творческий путь писателя
Однако слава о талантливом юноше с пылким умом уже начала распространяться, в том числе и в Симбирске. Гончаров получил предложение от самого губернатора, который желал, чтобы молодое дарование работало у него в качестве секретаря. Да, решение далось нелегко, поскольку Гончаров предчувствовал, что работа, хоть и почетная, но во многом однообразная, рутинная. Однако этот опыт можно назвать бесценным, ведь писатель понял, как функционируют винтики бюрократического механизма. Это впоследствии пригодилось ему в литературных трудах.
Через 11 месяцев он, всё же, принимает решение о возвращении в Петербург, где он так жаждал начать полноценную жизнь, наполненную событиями, полезную для общества. Практически сразу после приезда ему удалось устроиться на весьма хорошую высокооплачиваемую должность переводчика в Министерство финансов. Он подружился с Майковыми, известными людьми Санкт-Петербурга, преподавал их детям латынь и русскую словесность.
До сих пор в Санкт-Петербурге сохранился известный дом Майковых, это был не просто дом, а настоящая литературная Мекка, где собирались сливки, элита общества: живописцы, литераторы, музыканты, критики, и все люди, которым были интересны процессы, происходящие в русском обществе. Эти люди словно предчувствовали скорое изменение общественной формации.
Основа творчества
Одним из первых и популярных произведений стало сочинение «Мильон терзаний», это творение наполнено острой иронией, меткими наблюдениями жизни творческой интеллигенции того времени.

Во время написания Гончаров познакомился с Белинским, который, как и Пушкин, пополнил его духовную и нравственную копилку, обогатил новыми идеями. Белинский также хорошо отзывался о творчестве Гончарова, признавая его таланты.
Далее последовало написание «Обыкновенной истории», это первый роман известной трилогии: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». В романе писатель четко показывает конфликты русского общества, раздробленность, явную отчуждённость романтизма и реализма.
Путешествия по миру
Можно сказать, что Гончаров — счастливый человек и в чём-то баловень судьбы. Благодаря своему обаянию, пытливости ума, превосходному образованию и известности в литературных кругах, у него появилась возможность не только обеспечить себя финансово, но и повидать мир.
В 1852 году он был принят на службу в качестве секретаря к вице-адмиралу Путянину. Путятин был направлен на североамериканский континент, поскольку в то время Аляска принадлежала России. Кроме того, вице-адмиралу приходилось путешествовать на другой конец света в Японию. До сих пор дальние путешествия будоражат умы, а в то время такая возможность была неслыханной удачей.
Иван Гончаров отправился в кругосветное путешествие вместе со своим начальником, он вернулся в Санкт-Петербург в 1855 году с потрясающими впечатлениями, которые в полной мере отразил в очередном литературном шедевре «Фрегат Паллада».
В Министерстве финансов он работал не только в качестве переводчика, но и цензором, что придавало его положению невскую двусмысленность. В российском обществе активно зарождались предреволюционные идеи, которые на то время не носили ярко выраженный революционный характер, но выражались в четком осознании необходимости перемен. Поэтому многие представители интеллектуальной элиты общества недолюбливали цензоров, ведь в их задачу входило недопущение распространения идей, которые могут пошатнуть сложившиеся устои. Многие люди воспринимали Гончарова, как классового врага, не доверяли ему. В то время он создаёт второй роман своей знаменитой трилогии – «Обломов».
Писатель никак не мог отшлифовать свой литературный бриллиант, поскольку служебные дела отнимали слишком много времени. Сказалось и то, что его должность вызывает недоверие среди творческой интеллигенции. Поэтому им было принято решение об уходе со службы, чтобы полностью посвятить себя литературной деятельности.
В полностью законченном виде роман вышел в 1859 году, он также был успешен. Обломов - это собирательный персонаж, целое философское осмысление, социальное явление, которое показало инертность российского общества. На писателя обрушилась большая слава, однако Иван Александрович всегда оставался скромным человеком. Собственно, он был равнодушен к признанию, его крайне интересовала литература.
Последнее произведение в его жизни
Последнее произведение знаменитой трилогии — «Обрыв». Далось оно нелегко, поскольку сам писатель говорил, что пишет медленно, не всегда успевает отследить меняющиеся социальные явления жизни. У него уходило на написание много физических сил. Плюс, он состоял в переписке с представителями творческой интеллигенции, что также отнимало у него массу времени. Писатель активно создавал и очерки, посвященные поездкам по Восточной Сибири, Волге. Несмотря на то, что творчество давалось ему тяжело, ведь работал он с полной самоотдачей, за свою жизнь он создал немало произведений. Некоторые из них вышли уже после его смерти.
Умер писатель в 1891 году. Его здоровье ослабло, поэтому обычная простуда в итоге стала для него смертельным недугом. Похоронен писатель на Никольском кладбище при Александро-Невской Лавре.
Известие о смерти быстро разнеслось по Москве и Петербургу, по всей России, некролог был опубликован в «Вестнике Европы».
Многие люди, которых интересует биография Ивана Гончарова, желают узнать больше и о его личной жизни. Так получилось, что Иван Гончаров не был женат, детей у него нет. Он не скрывал, что долгое время был безответно влюблён в Ю.Д. Ефремову, но она вышла замуж за другого. Писатель сосредоточился на литературном творчестве, он уже не надеялся влюбиться вновь. В 1855 году его, однако, снова посетило светлое чувство к Елизавете Васильевне Толстой, которой он буквально бредил, любил страстно и безнадежно. К сожалению, этот союз также не состоялся, поскольку Елизавета Васильевна вышла замуж за археографа, историка, русского государственного деятеля А.И. Мусина-Пушкина.
Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter .
По складу своего характера Иван Александрович Гончаров далеко не похож на людей, которых рождали энергичные и деятельные 60-е годы XIX века. В его биографии много необычного для его эпохи, в условиях 60-х годов она - сплошной парадокс. Гончарова как будто не коснулась борьба партий, не затронули различные течения бурной общественной жизни.
В противоположность большинству писателей сороковых годов XIX столетия он происходит из зажиточного симбирского купеческого семейства, что не помешало ему, однако, получить, помимо запаса деловитости, весьма тщательное по тому времени образование.
Гончаров И.А. вошел в русскую литературу как прогрессивный писатель, как выдающийся представитель той школы реалистов 40-х годов, которые продолжали традиции Пушкина и Гоголя, воспитывались под непосредственным воздействием критики Белинского.
«Реализм, - говорил Гончаров, есть одна из капитальных основ искусства». Он состоит в том, что произведения литературы вбирают в себя всю правду жизни Именно так, по твердому убеждению Гончарова, и творили величайшие корифеи мировой литературы: «Гомер, Сервантес, Шекспир, Гете и другие, а у нас, прибавим от себя, Фонвизин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь стремились к правде, находили ее в природе, в жизни и вносили в свои произведения». Именно эта реалистичная направленность литературы «делает ее орудием просвещения», то есть «письменным или печатным выражением духа, ума, фантазии, знаний - целой страны».
Гончаров явился одним из крупнейших представителей русского реализма, хотя и не всегда достаточно последовательным. Слабые стороны мировоззрения Гончарова отразились и на его художественном методе.
В отличие от Некрасова, Щедрина, Успенского Гончаров рисовал почти исключительно дореформенную русскую жизнь. Ее сложную и противоречивую эволюцию Гончаров отображал во всех своих произведениях. В центре его внимания постоянно находилась борьба между феодально-крепостническим укладом и враждебными этому укладу ростками новой жизни. Эта борьба отличалась остротой: «старое» отстаивало себя в борьбе с «новым», и конфликт между этими двумя началами был закономерным и неизбежным. Под знаком ожесточенной борьбы развертываются столкновения между Александром и Петром Адуевыми, Обломовым и Штольцем, бабушкой и Райским.
Сила гончаровского реализма проявляется в том, что он глубоко связывает характеры и психологию дворянских героев с крепостническим укладом. Среди русских писателей ни один не уделил этому укладу столько внимания. Неторопливым пером своим романист воссоздает перед нами экономику крепостничества, его социологию, культуру и пр.
Гончаров в своем творчестве весьма символичен. Во всех его произведениях прослеживается явная связь всех персонажей с местом пребывания, именем или предметным миром. Например, деревня Грачи в «Обыкновенной истории», халат и мягкие туфли - спутники спокойно и размеренной жизни Обломова, сладкая Малиновка в «Обрыве» и фамилия самого персонажа Райский!
«Обыкновенная история» имела успех необычайный. Даже «Северная Пчела», яркая ненавистница так называемой «натуральной школы», считавшая Гоголя русским Поль де Коком, отнеслась крайне благосклонно к дебютанту, несмотря на то, что роман был написан по всем правилам ненавистной Булгарину школы.
В 1848 г. был напечатан в «Современнике» маленький рассказ Гончарова из чиновничьего быта «Иван Савич Поджабрин», написанный еще в 1842 г., но попавший в печать, когда автор внезапно прославился.
В 1852 г. Гончаров попадает в экспедицию адмирала Путятина, отправлявшегося в Японию. Гончаров был прикомандирован к экспедиции в качестве секретаря адмирала. Возвратившись из путешествия, на половине прерванного наступившей Восточной войной, Гончаров печатает в журналах отдельные главы «Фрегата Паллады», а затем усердно берется за «Обломова», который появился в свете в 1859 г. Успех его был такой же всеобщий, как и «Обыкновенной истории».
В 1858 г. Гончаров переходит в цензурное ведомство (сначала цензором, потом членом главного управления по делам печати). В 1862 г. он был недолго редактором официальной «Северной Почты». В 1869 г. появился на страницах «Вестника Европы» третий большой роман Гончарова, «Обрыв», который, по самому существу своему, уже не мог иметь всеобщего успеха. В начале семидесятых годов Гончаров вышел в отставку. Написал он с тех пор лишь несколько небольших этюдов - «Миллион терзаний», «Литературный вечер», «Заметки о личности Белинского», «Лучше поздно, чем никогда» (авторская исповедь), «Воспоминания», «Слуги», «Нарушение воли» - которые, за исключением «Миллиона терзаний», ничего не прибавили к его славе. Гончаров тихо и замкнуто провел остаток своей жизни в небольшой квартире, из 3 комнат, на Моховой, где он и умер 15 сентября 1891 г. Похоронен в Александро-Невской лавре. Гончаров не был женат и литературную собственность свою завещал семье своего старого слуги. (21, 20)
Таковы несложные рамки долгой и не знавшей никаких сильных потрясений жизни автора «Обыкновенной истории» и «Обломова». И именно эта-то безмятежная ровность, которая сквозила и в наружности знаменитого писателя, создала в публике убеждение, что из всех созданных им типов Гончаров ближе всего напоминает Обломова.
Повод к этому предположению отчасти дал сам Гончаров. Вспомним, например, эпилог «Обломова»: «Шли по деревянным тротуарам на Выборгской стороне два господина. Один из них был Штольц, другой его приятель, литератор, полный, с апатичным лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами».(10) В дальнейшем оказывается, что апатичный литератор, беседующий со Штольцем, «лениво зевая», есть не кто иной, как сам автор романа. Во «Фрегате Палладе» Гончаров восклицает: «Видно, мне на роду написано быть самому ленивым и заражать ленью все, что приходит в соприкосновение со мною». (12) Несомненно, самого себя вывел иронически Гончаров в лице пожилого беллетриста Скудельникова из «Литературного Вечера». Скудельников «как сел, так и не пошевелился в кресле, как будто прирос или заснул. Изредка он поднимал апатичные глаза, взглядывал на чтеца и опять опускал их. Он, по-видимому, был равнодушен и к этому чтению, и к литературе, и вообще ко всему вокруг себя». Наконец, в авторской исповеди Гончаров прямо заявляет, что образ Обломова не только результат наблюдения окружающей среды, но и результат самонаблюдения. И на других Гончаров с первого раза производил впечатление Обломова. Анджело де Губернатис таким образом описывает внешний вид романиста: «Среднего роста, плотный, медленный в походке и во всех движениях, с бесстрастным лицом и как бы неподвижным (spento) взглядом, он кажется совершенно безучастным к суетливой деятельности бедного человечества, которое копошится вокруг него».
И все-таки Гончаров - не Обломов. Чтобы предпринять кругосветное плавание на парусном корабле, нужна была решительность, которая не наблюдалась у Обломова. Не Обломовым является Гончаров и тогда, когда мы знакомимся с той тщательностью, с которой он писал свои романы, хотя именно вследствие этой тщательности, неизбежно ведущей к медленности, публика и заподозрила Гончарова в обломовщине. Видят авторскую лень там, где на самом деле страшно интенсивная умственная работа. Конечно, перечень сочинений Гончарова очень необширный. Сверстники Гончарова - Тургенев, Писемский, Достоевский - меньше его жили, а написали гораздо больше.
Но зато у Гончарова широк захват, как велико количество материала, заключающегося в трех его романах. Еще Белинский говорил о нем: «Что другому бы стало на десять повестей, у Гончарова укладывается в одну рамку». (5) У Гончарова мало второстепенных, по размеру, вещей, только в начале и в конце своей 50-летней литературной деятельности он писал свои немногочисленные маленькие повести и этюды. Между писателями есть такие, которые могут писать только широкие холсты. Гончаров - из их числа. Каждый из его романов задуман в колоссальных размерах, каждый старается воспроизвести целые периоды, целые полосы русской жизни. Много таких вещей и нельзя писать, если не впадать в повторения и не выходить за пределы реального романа, т.е. если воспроизводить только то, что автор сам видел и наблюдал. В обоих Адуевых, в Обломове, в Штольце, в бабушке, в Вере и Марке Волохове Гончаров воплотил, путем необыкновенно интенсивного синтеза, все те характерные черты пережитых им периодов русского общественного развития, которые он считал основными. А на миниатюры, на отдельное воспроизведение мелких явлений и лиц, если они не составляют необходимых аксессуаров общей широкой картины, он не был способен, по основному складу своего более синтетического, чем аналитического таланта.(25)
Только оттого полное собрание его сочинений сравнительно так необъемисто. Дело тут не в обломовщине, а в прямом неумении Гончарова писать небольшие вещи. «Напрасно просили, - рассказывает он в авторской исповеди, - моего сотрудничества в качестве рецензента или публициста: я пробовал - и ничего не выходило, кроме бледных статей, уступавших всякому бойкому перу привычных журнальных сотрудников». (14) «Литературный вечер», например, - в котором автор, вопреки основной черте своего таланта, взялся за мелкую тему - сравнительно слабое произведение, за исключением двух-трех страниц.
Но когда этот же Гончаров в «Миллионе терзаний» взялся хотя и за критическую, но все-таки обширную тему - за разбор «Горя от ума», то получилась решительно крупная вещь. В небольшом этюде, на пространстве немногих страниц, рассеяно столько ума, вкуса, глубокомыслия и проницательности, что его нельзя не причислить к лучшим плодам творческой деятельности Гончарова.
Еще более несостоятельной оказывается параллель между Гончаровым и Обломовым, когда мы знакомимся с процессом зарождения романов Гончарова.
Среди современников Гончарова бытовала мнение, что он напишет роман, а потом десять лет отдыхает. Это неверно. Промежутки между появлениями романов наполнены были у автора интенсивной, хотя и не осязательной, но все-таки творческой работой. «Обломов» появился в 1859г., но задуман он был и набросан в программе тотчас же после «Обыкновенной истории», в 1847 г. «Обрыв» напечатан в 1869 г., но концепция его и даже наброски отдельных сцен и характеров относятся еще к 1849 г. (4)
Как только какой-нибудь сюжет завладевал воображением писателя, он тотчас начинал набрасывать отдельные эпизоды, сцены и читал их своим знакомым. Все это до такой степени его переполняло и волновало, что он изливался «всем кому попало», выслушивал мнения, спорил. Затем начиналась связная работа. Появлялись целые законченные главы, которые даже отдавались иногда в печать. Так, например, одно из центральных мест «Обломова» - «Сон Обломова» - появился в печати десятью годами раньше появления всего романа (в «Иллюстрированном Альманахе» «Современника» за 1849 г.). Отрывки из «Обрыва» появились в свет за 8 лет до появления всего романа. А главная работа тем временем продолжала «идти в голове», и, факт глубоко любопытный, Гончарову его «лица не дают покоя, пристают, позируют в сценах». «Я слышу, - рассказывает далее Гончаров, - отрывки их разговоров, и мне часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится в воздухе около меня, и мне только надо смотреть и вдумываться». (14) Произведения Гончарова до того им были обдуманы во всех деталях, что самый акт писания становился для него вещью второстепенной. Годами обдумывал он свои романы, но писал их неделями. Вся вторая часть «Обломова», например, написана в пять недель пребывания в Мариенбаде. Гончаров писал ее, не отходя от стола. Ходячее представление о Гончарове, как об Обломове, дает, таким образом, совершенно ложное о нем понятие. Действительная основа его личного характера, обусловившая собою и весь ход его творчества, вовсе не апатия, а уравновешенность его писательской личности и полное отсутствие стремительности. (22)
Еще Белинский говорил об авторе «Обыкновенной истории»: «У автора нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю, он как будто думает: кто в беде, тот и в ответе, а мое дело сторона». (2) Нельзя считать эти слова чисто литературной характеристикой. Когда Белинский писал отзыв об «Обыкновенной истории», он был приятельски знаком с автором ее. И в частных разговорах вечно бушующий критик накидывался на Гончарова за бесстрастность: «Вам все равно, - говорил он ему, - попадается мерзавец, дурак, урод или порядочная, добрая натура - всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти, ни к кому». (5) За эту размеренность жизненных идеалов, прямо, конечно, вытекавшую из размеренности темперамента, Белинский называл Гончарова «немцем» и «чиновником».
Лучшим источником для изучения темперамента Гончарова может служить «Фрегат Паллада» - книга, являющаяся дневником духовной жизни Гончарова за целых два года, притом проведенных при наименее будничной обстановке. Разбросанные по книге картины тропической природы местами, например, в знаменитом описании заката солнца под экватором, возвышаются до истинно - ослепительной красоты. Но красоты какой? Спокойной и торжественной, для описания которой автор не должен выходить за границы ровного, безмятежного и беспечального созерцания. Красота же страсти, поэзия бури совершенно недоступны кисти Гончарова. Когда «Паллада» шла по Индийскому океану, над ней разразился ураган «во всей форме». Спутники, естественно полагавшие, что Гончаров захочет описать такое, хотя и грозное, но вместе с тем и величественное явление природы, звали его на палубу. Но, комфортабельно усевшись на одно из немногих покойных мест в каюте, он не хотел даже смотреть на бурю и почти насильно был вытащен наверх.
Если исключить из «Фрегата Паллады» страниц 20, в общей сложности посвященных описаниям красот природы, то получится два тома почти исключительно жанровых наблюдений. Куда бы автор ни приехал - на мыс Доброй Надежды, в Сингапур, на Яву, в Японию, - его почти исключительно занимают мелочи повседневной жизни, жанровые типы. Попав в Лондон в день похорон герцога Веллингтона, взволновавших всю Англию, он «неторопливо ждал другого дня, когда Лондон выйдет из ненормального положения и заживет своею обычною жизнью». Точно также «довольно равнодушно» Гончаров «пошел вслед за другими в британский музеум, по сознанию только необходимости видеть это колоссальное собрание редкостей и предметов знания». (12) Но его неудержимо «тянуло все на улицу». «С неиспытанным наслаждением, - рассказывает далее Гончаров, - я вглядывался во все, заходил в магазины, заглядывал в дома, уходил в предместья, на рынки, смотрел на всю толпу и в каждого встречного отдельно. Чем смотреть сфинксы и обелиски, мне лучше нравится простоять целый час на перекрестке и смотреть, как встретятся два англичанина, сначала попробуют оторвать друг у друга руку, потом осведомятся взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия; с любопытством смотрю, как столкнутся две кухарки с корзинками на плечах, как несется нескончаемая двойная, тройная цепь экипажей, подобно реке, как из нее с неподражаемою ловкостью вывернется один экипаж и сольется с другою нитью, или как вся эта цепь мгновенно онемеет, лишь только полисмен с тротуара поднимет руку. В тавернах, в театрах - везде пристально смотрю, как и что делают, как веселятся, едят, пьют». (12)
Слог Гончарова - удивительно плавен и ровен, без сучка и задоринки. Нет в нем колоритных словечек Писемского, нервного нагромождения первых попавшихся выражений Достоевского. Гончаровские периоды округлены, построены по всем правилам синтаксиса. Слог Гончарова сохраняет всегда один и тот же темп, не ускоряясь и не замедляясь, не ударяясь ни в пафос, ни в негодование.
Иван Александрович Гончаров своим «чистым, правильным, легким, свободным, льющим языком» сыграл большую роль в развитии русского литературного языка. Он стремился к ясной, точно и вместе с тем живописной речи, широко используя богатство народного языка.